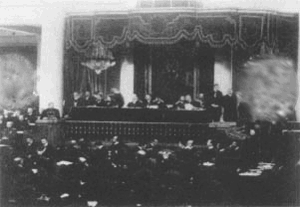Легкомысленным людям казалось, что первая революция дала чисто отрицательный результат. «Вихрь покрутился, и все остаюсь по-старому»,— насмехался один не то правоменьшевистский, не то кадетский публицист (отличать две эти разновидности уже в те времена было трудно). Другой бывший «левый» дошел до еще большей наглости и сравнивал русский народ с гоголевский Поприщиным, вообразившим себя испанским королем, а революционные программы — с мыльным пузырем, в который городовой ткнул носком сапога, и пузырь лопнул.

Стоит ли вспоминать все эти пакости? Весьма стоит. Во-первых, потому, что они знаменуют собою начало того поворота российской интеллигенции, который с особою силою и резкостью сказался после октября 1917 г., когда вся эта интеллигенция, за ничтожными исключениями, оказалась в лагере контрреволюции. А во-вторых, потому, что мы имеем здесь превосходный образчик того, как поверхностное наблюдение приводит легкомысленных людей к выводам, весьма далеким от объективной действительности. В ту минуту, когда малодушные «левые» интеллигенты начинали оплевывать то, чему они вчера поклонялись, усмирители революции чувствовали себя далеко не спокойно. Им — лучше осведомленным, чем интеллигенция, — мерещилось, что массовое движение вот-вот вспыхнет опять, и она, хватаясь за террор, стремясь оглушительным ударом запугать отступавшего, но далеко не уничтоженного противника, в то же время готовились к сложным по-своему смелым маневрам, которые должны были расколоть этого противника и предупредить на будущее время самую возможность возникновения в России общенародной революции. Террор и уступки, хлыст для непокорных и пряник для подчинившихся — в этом была суть политики, ведшейся от имени Николая II первые три-четыре года после подавления массового движения. Она велась от имени Николая, но не он был ее настоящим автором. Творцом послереволюционной политики, резко отличавшейся от политики самодержавия до 1905 г. — настолько резко, что те же легкомысленные наблюдатели через несколько лет стали кричать о полном перерождении царизма и превращении его в буржуазную монархию — был «разгонщик» первой государственной думы, тогдашний министр внутренних дел Столыпин. Отсюда и самый этот новый период русской истории, лежащий между первой революцией и империалистской войной, правильно был окрещен именем «столыпинщины». Без анализа столыпинщины мы не имели бы полной картины нашей первой революции, потому что не знали бы ее объективных результатов, тех перемен, которые она действительно внесла в жизнь императорской России, — перемен, весьма мало похожих на идеалы революционеров, но тем не менее в корне опровергающих легкомысленное утверждение, будто после революции «все осталось по-старому».
Имя Столыпина неразрывно связано в нашей памяти со «столыпинским галстуком» — революционной фразой, нечаянно сорвавшейся с уст одного кадетского оратора (то-то бедняга потом испугался!). «Столыпин-вешатель» неотразимо встает в нашем воображении, когда мы слышим это имя. И правильно — ибо виселица была такой же специфической, свойственной именно Столыпину формой борьбы с революцией как раньше погром для Трепова. Трепов выступил в период подъема массового движения и должен был противопоставить, попытаться по крайней мере противопоставить, массу массе. Столыпинщина возникла на отливе массового движения: массы восставали все реже и реже, все слабее и слабее; нужно было добить уже разочарованных и уставших, вылавливая и казня «вожаков» или просто наиболее смелых и наименее утомившихся. Тут самым подходящим средством и был индивидуальный террор. Первая дума была разогнана 9 июля (ст. ст.) 1905 г., а уже 14 августа Николай писал под диктовку Столыпина: «Непрекращающиеся покушения и убийства должностных лиц и ежедневные дерзкие грабежи приводят страну в состояние полной анархии. Не только занятие честным трудом (!), но даже сама жизнь людей находится в опасности». Чтобы не мешать «честному труду» шпионов и провокаторов и оградить жизнь губернаторов и полицеймейстеров, нужны были, само собою разумеется, «экстренные меры». «По-видимому только исключительный закон, изданный на время, пока спокойствие не будет восстановлено, даст уверенность, что правительство приняло решительные меры и успокоит всех» — заканчивал свое «историческое» послание Николай.
Через пять дней, 19 августа, во всей России были введены полевые суды, действовавшие до 20 апреля 1907 г. В руки нескольких строевых офицеров, без всякого юридического, а часто и вообще без всякого образования, вдохновлявшихся исключительно дикой ненавистью помещика к рабочей и крестьянской революции, была отдана жизнь любого гражданина, у которого нашли в кармане браунинг. Браунинг — значит «вооруженное сопротивление»; вооруженное сопротивление — значит виселица. Чтобы утопить революцию не только в крови, но и в грязи, а кстати и создать видимость «восстановления порядка» в глазах мещан, на жертву полевым судам изредка отдавали и обыкновенных уголовных разбойников — далеко не всех, впрочем: как только обнаруживались признаки «чистой» уголовщины, гражданская прокуратура требовала обвиняемого себе, и ей обыкновенно уступали. Большинство казненных по приговорам полевых судов приходилось на случаи вооруженного сопротивления — измельчавшей, индивидуализировавшейся формы вооруженного восстания — или «экспроприаций», такой же измельчавшей, выродившейся формы захвата имущества контрреволюционеров — правительственных учреждений, банков, буржуазии и помещиков. Мещан экспроприации приводили в ужас, и это очень облегчало столыпинскую расправу. Субъективно экспроприаторы были обыкновенно искренние, хотя и стоящие разумеется на ложном пути революционеры. Отдельные крупные «эксы» впрочем оказывали серьезную материальную поддержку революционному движению, так что говорить о «ложном пути» без оговорок тоже не приходится. Со своей точки зрения Столыпин был прав, когда беспощадно истреблял «эксистов», физически и морально стремясь их утопить в куче «бандитов». Это было наиболее смелое, что осталось от революционного движения — самое опасное в случае возникновения новой революции.
За время столыпинской диктатуры было вынесено более 5 тыс. смертных приговоров, а действительно казнено около 3 1/2 тыс. человек — по крайней мере втрое больше, чем за весь период массового движения (если не считать, разумеется, расстрелов без суда после подавления вооруженного восстания). Столыпин был недоволен «мягкостью» полевых судов и относил «слабость» их действия на счет саботажа высшего военного начальства, от которого зависело утверждение приговоров. Форма военного суда здесь связывала полицию. На одного генерала Столыпин даже формально жаловался, и сохранившаяся переписка по этому поводу служит блестящим подтверждением крылатого словца о «столыпинском галстуке». Хоть и кадетское, словцо было сказано метко и вовремя — как метка века и характеристика, данная Столыпину другим кадетом: «Во всей его крупной фигуре, — писал о Столыпине последний, — в резких и решительных движениях, в холодном с металлическим оттенком голосе, в тяжелом взгляде злых глаз, в неприятном очертании крупных красных губ на бледном лице, — во всем было что-то тяжелое, властно-тупое и жестокое».
Этой фигуры «вешателя» ни на минуту не нужно выпускать из глаз, изучая «буржуазные реформы» Столыпина. Впадать в сентиментальность по поводу буржуазного характера этих реформ, видеть по этому случаю в Столыпине что-то «прогрессивное» было бы так же странно, как видеть представителя прогресса в Николае I, тоже ведь немало сделавшем для развития промышленного капитализма в России. «Прогресс» и в том и в другом случае получался объективно, независимо от воли действующих лиц. Для Столыпина на первом плане стояло подавление революции и восстановление поколебленной власти помещичьего класса. Над рядовыми усмирителями его поднимало то, что он сознавал невозможность достигнуть этой цели на старой социальной основе. Помещик не мог уже держаться один — ему нужна была подмога; это сознавал и Трепов в 1905 г.; но Трепов до крестьянских выступлений осени 1905 г. и весны 1908 г. рассчитывал в качестве «подмоги» на всю крестьянскую массу. У Столыпина этой иллюзии быть уже не могло.
Уничтожая революцию физически, «столыпинский галстук» был плохим средством для подавления революционных настроений. В разгар действия полевых судов Николай чувствовал себя не многим более уютно, чем в дни декабрьского восстания. «Ты понимаешь мои чувства, милая мама, — писал он Марии Феодоровне через две недели после издания того «исключительного закона», которого, он требовал от Столыпина или который от него вытребовал Столыпин: — не иметь возможности ни ездить верхом, ни выезжать за ворота куда бы то ни было. И это у себя дома, в спокойном всегда Петергофе! Я краснею писать тебе об этом и от стыда за нашу родину и от негодования, что такая вещь могла случиться у самого Петербурга. Поэтому мы с такой радостью уходим завтра на «Штандарте» в море, хоть на несколько дней прочь от всего этого позора». В разгар белого террора царь попросту бежал от красных террористов... И не помогли его яростные письма Столыпину, где он вопил, что «считает свое невольное заключение в «Александрии»[1] не только обидным, но прямо позорным». Пришлось бежать. И что он потом должен был чувствовать, когда обнаружилось, что и на верном «Штандарте» есть заговорщики! С дачей самого Столыпина на Аптекарском острове случалось еще хуже: она была взорвана революционерами, причем погибло много народу, но сам «вешатель» уцелел. Он получил законное возмездие только четыре года спустя от руки одного бывшего анархиста, продавшегося охранке и надеявшегося убийством Столыпина искупить свою вину перед революцией.
Но индивидуальный террор мог пугать — и уничтожать — отдельные личности; он был не страшен порядку. Страшнее были те признаки массовой революционности, которые показывали, что революция отнюдь не подавлена, а только «ушла внутрь». Одним из этих признаков были выборы во II Думу, состоявшиеся в январе 1907 г., и сама эта Дума, просуществовавшая с февраля до начала июня. Выборы проходили под лозунгам борьбы с кадетами — главными, как мы помним, соперниками Столыпина по части усмирения революции. Методы усмирения, применявшиеся Столыпиным — и которые наверное применялись бы и самими кадетами, если бы они стояли у власти, только в более лицемерных формах — создали среди городского мещанства кадетам платформу, какой только можно желать: в городах кадеты получили 74 тыс. голосов из 167 тыс., т.е. более 40%, причем на втором месте прошли не октябристы, которым покровительствовал Столыпин, а «левый блок», т.е. блок большевиков и эсеров[2], получивший 41 тыс. голосов городских избирателей высказались таким образом за оппозицию — избирателей-мещан, надо прибавить, потому что рабочие, как мы знаем, были заключены в особую «курию». По этой последней курии, охватывавшей конечно фактическое большинство городского населения, прошли исключительно крайние левые: в Москве почти сплошь большевики, в Петербурге с примесью 40% эсеров. В итоге таким образом подавляющее большинство городского населения высказалось против Столыпина. Но еще «хуже» было в деревне: крестьяне дали 49% крайних депутатов, и почти 40% крестьянских депутатов заявили себя кадетами, или «прогрессистами». «Царь-батюшка» получил около 1/3 крестьянских «выборщиков», но благодаря перевесу остальных двух третей на долю монархистов досталось менее 8% всех крестьянских депутатов. Монархический кошмар, висевший над русской деревней еще в дни выборов в I Думу; (весна 1906 г.), теперь развеялся больше, чем наполовину. Уже в январе 1907 г. рядом с сознательными рабочими стоял сознательный крестьянин.
Крестьянская революция была расстреляна и запорота, была придушена, но отнюдь не была подавлена. Ее лозунги в сознании масс стали только ярче и утвердились крепче, что тотчас же сказалось в речах крестьянских депутатов II Думы. Начиная с крайних правых, с первых слов заявлявших, что они «до смерти будут защищать царя и отечество», и кончая крестьянами-эсерами, — все они говорили в сущности одно и то же. Крестьянин «правый» говорил: «...частновладельческих земель нельзя коснуться по закону. Я конечно согласен с тем, что закона надо придерживаться, но для того, чтобы устранить малоземелье, нужно написать такой закон, чтобы все это и сделать по закону...». Этот крестьянин-монархист шел на выкуп, но находил, что Кутлер (автор кадетского аграрного законопроекта), «как человек богатый, дорого сказал, и мы, крестьяне бедные, столько не можем заплатить...» Беспартийный крестьянин говорил: «Мы — честные граждане, мы политикой не занимаемся (!)... они (помещики) только ходят да пузо себe понажирали с вашей крови, с наших соков. Мы вспомним, мы их не будем так обижать, мы им и земли дадим. Если сосчитать, то у нас придется на каждый двор по 16 десятин, а господам крупным землевладельцам еще остается по 50 десятин...» «Знайте, господа народные представители, — говорил другой «беспартийный», — голодный человек не может сидеть спокойно, если он видит, что, несмотря на его горе, власть на стороне господ помещиков. Он не может не желать земли, хотя бы это было и противозаконно: его нужда заставляет. Голодный человек готов на все, потому, что его нужда заставляет ни с чем не считаться...» Третий просто заявил: «Нужно земли отобрать от священников и помещиков». Сославшись на часто приводимые попами евангельские слова «стучите и отверзется», он продолжал: «Мы просим, просим, а нам не дают, и стучим — не дают; что же, придется двери ломать и отбирать. Господа, не допустите двери ломать, отдайте добровольно, и тогда будет воля, свобода, и вам будет хорошо и нам».
Крестьяне-«левые» только более отчетливо выражали те же мысли да делали из них выводы, до которых еще не додумались «беспартийные». «Теперь мы более ни о чем не говорим, как о земле; нам опять говорят: «священна, неприкосновенна». Я думаю: не может быть, чтобы она была неприкосновенна; раз того желает народ, не может быть ничего неприкосновенного. Господа дворяне, вы думаете, мы не знаем, когда вы нас на карту ставили, когда вы нас на собак меняли? Знаем, это была все ваша священная, неприкосновенная собственность... Украли у нас землю... Крестьяне, которые посылали меня, сказали так: «Земля наша, мы пришли сюда не покупать ее, а взять». «Мы видим здесь в лице председателя совета министров не министра всей страны, а министра 130 тысяч помещиков, — говорил другой «левый» крестьянин: — 90 миллионов крестьян для него ничего не составляют. Вы (обращаясь к правым) занимаетесь эксплуатацией, отдаете внаймы свои земли по дорогой цене и дерете последнюю шкуру с крестьянина... Знайте, что народ, если правительство не удовлетворит нужды, не спросит вашего согласия, он возьмет землю».
«Общей чертой у крестьян-трудовиков и крестьянской интеллигенции является живость воспоминаний о крепостном праве, — говорил Ленин, у которого я беру цитаты. — Всех их объединяет ключом бьющая ненависть к помещикам и помещичьему государству. Во всех них бушует революционная страсть... все ненавидят компромисс со старой Россией, все борются за то, чтобы не оставить на проклятом: средневековье камня на камне»[3].
Против такого, в своем роде «массового», выступления не могли помочь никакие полевые суды, никакой террор. «Я политикой не занимаюсь, — говорил крестьянин, — а землю дай». Чью-то землю надо было дать, если не хотели, чтобы революция вновь вспыхнула через год-два, чего и ждали некоторые, слишком элементарно понимавшие революцию, революционеры. Они были правы в том смысле, что неразрешенность аграрного вопроса означала незавершенность в России буржуазной революции, исключала возможность, что дело дальше пойдет по мирному пути. Но они считали слишком короткими сроками, и ход истории представлялся им слишком прямолинейным. Столыпин не мог утолить земельную жажду крестьян, но он нашел средства оттянуть развязку кризиса на целых десять лет; оттянул бы вероятно и на более долгий срок, не будь войны 1914 г. Он хорошо помнил, — в его лице помещичий класс хорошо помнил, — что крестьян однажды в истории удалось обмануть, в 1861 г., и обмана хватило на два десятилетия: крестьяне не откликнулись на призывы революционеров-народников. Нельзя ли повторить обман и не будет ли он иметь такого же успеха?
Само собою разумеется, что обман, так сказать, в «чистом» виде никогда не мог бы иметь успеха. Если бы крестьяне в 1861 г. совсем ничего не получили, крестьянская революция разразилась бы уже в 60-х годах. На самом деле крестьяне кое-что получили от «крестьянской реформы» — ценою потери пятой части своей земли и уплаты за остальную бешеных денег они перестали быть движимым, имуществом помещика, их нельзя было больше менять на собак и проигрывать в карты. Что помещику его «движимое имущество» было теперь в тягость, что он гораздо больше ценил теперь «недвижимое», этого крестьяне в 1861 г. не понимали, — они поняли гораздо позже, когда их вновь закабалили «отрезки». В 1906–1910 гг. крестьянам тоже что-то нужно было действительно дать. Прежде всего Крестьянскому банку было передано «для продажи «малоземельным» некоторое количество земли государственной и удельной (принадлежавшей царской фамилии). Продажа должна производиться с понижением против номинальной стоимости на 20% (указы 12 и 2 августа ст. ст. 1906 г.). Предполагалось «передать» (т.е. продать, проще говоря) таким путем крестьянам около 10 млн га, — фактически было продано не более 3,3 млн га, в том числе около 1,4 млн га удельной земли.
Это была капля в море. 3,3 млн га никоим образом не могли сколько-нибудь заметно увеличить 140-миллионного надельного фонда, на котором задыхался крестьянин. Несколько щедрее, чем царь-батюшка, оказались сами помещики, начавшие весьма энергично распродавать свою землю, особенно в местах наиболее интенсивного крестьянского движения. В одном 1906 г. помещики выбросили на рынок 8,3 млн га земли. Покупщиков на такую массу сразу не нашлось, и в течение четырех лет — 1906–1910 — крестьяне купили через банк всего 7,2 млн га; три четверти из этого в черноземной полосе. Покупали вовсе не «малоземельные», уже по той простой причине, что «банковской земли было больше всего там, где многоземельное крестьянство, и менее всего там, где было малоземельное, т.е. где было больше бедноты»[4]. Требовал же помещик за землю втридорога, так что ежегодные платежи по ссуде была немногим ниже существовавшей в этой местности арендной платы, а иногда и выше. Этим отчасти и объяснялось то, что «предлагалось» земли гораздо больше, чем действительно продавалось. Помещики винили конечно в этом неумелость крестьянского банка, который по жалобам дворянства и был даже взят под специальный надзор самого Николая. Хотя помещики и продавали крестьянам втридорога вдвое больше земли, чем казна и уделы, все же и это было для утоления крестьянской земельной жажды немного более капли в море. Тогда помещичьи круги осенила мысль: в 1861 г. мы продали крестьянам их собственные наделы за очень хорошую цену, нельзя ли теперь дать им «дополнительное наделение» из их же собственных, крестьянских земель? Тут вспомнили пример Западной Европы; там крупное землевладение в значительной степени сложилось путем грабежа общинных земель: нельзя ли у нас путем такого же грабежа создать мелкое индивидуальное землевладение и в его лице прочного союзника помещику в деле отстаивания «священной, неприкосновенной» земельной собственности?
Эта основная мысль столыпинщины — разгром общины, создание на ее месте крепкого кулацкого крестьянства и превращение остальной крестьянской массы в огромную резервную армию труда, обеспечивающую одновременно и спрос на рабочих растущей крупной промышленности и потребность «юнкерского» хозяйства в батраке, — эта мысль не принадлежала лично Столыпину и встречается нам задолго до него. Впервые ее отчетливо формулировало витебское «совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности» (см. выше). Оно, опираясь на пожелания большинства местных комитетов, выдвинуло положение: «Содействовать переходу сельских общин к подворному и хуторскому владению, предоставив отдельным крестьянам выделять свой надел из общинного землепользования, помимо согласия мира».

Столыпин поэтому не открывал никакой Америки, когда он, еще саратовский губернатор, в своем отчете Николаю за 1904 г., «доискиваясь причины зла», задерживающего развитие сельского хозяйства в России, указывал на «всепоглощающее влияние на весь уклад сельской крестьянской жизни общинного владения землею общинного строя. Строй этот вкоренился в понятие народа. Нельзя сказать, что он его любил: он просто другого порядка на понимает и не считает возможным. Вместе с тем у русского крестьянина страсть всех уравнять, все привести к одному уровню, а так как массу нельзя поднять до уровня самого деятельного и умного, то лучшие элементы должны быть принижены к пониманию, к устремлению худшего, инертного большинства... Жажда земли, аграрные беспорядки сами по себе указывают на те меры, которые могут вывести крестьянское население из настоящего ненормального положения. Естественным противовесом общинному началу является единоличная собственность. Она же служит залогом порядка, так как мелкий собственник представляет из себя ту ячейку, на которой покоится устойчивый порядок в государстве».
Столыпин не был в этом одинок даже среди своих ближайших «коллег» — губернаторов. В отчете за тот же 1904 г. херсонский губернатор писал: «Временный характер пользования землею при общинной системе, помимо того что является препятствием для улучшения земельной культуры, не дает твердого понятия о собственности, служит источником споров, розни и неурядиц... Для достижения земельного благоустройства крестьян могут быть рекомендованы меры: 1) установление условий, облегчающих переход от общинного землевладения к подворному, и поощрительных мер правительства к расселению крестьян в пределах надела с целью перехода к хуторскому хозяйству...» И всего менее был Столыпин одинок среди своих одноклассников — помещиков. Наиболее передовая их группа, соответствовавшая примерно той группе дворянства 1861 г., что провела тогда «освобождение» с отрезками и колоссальным выкупом, всецело разделяла столыпинскую точку рения. Знакомый нам по спорам о всеобщей избирательном праве Бобринский (см. выше), говорил II Думе: «Каких-нибудь 100–150 лет тому назад в Западной Европе почти повсюду крестьяне жили так же бедно, так же приниженно и невежественно, как у нас теперь. Была та же община, как и у нас в России, с переделом по душам, тот типичный пережиток феодального строя. А теперь «нищий, приниженный крестьянин» превратился в «зажиточного, уважающего себя и других полезного гражданина». Как это случилось? Тут есть только один ответ: чудо это совершила крестьянская личная собственность, которую мы, правые, будем отстаивать всеми силами нашего разума, всею мощью нашего искреннего убеждения, ибо мы знаем:, что в собственности сила и будущность России».
«Реакционность черносотенной программы состоит не в закреплении каких-либо докапиталистических отношении или порядков (в этом отношении все партии в эпоху II Думы стоят уже в сущности на почве признания капитализма, как данного), — говорит Ленин по поводу этого выступления Бобринского, — а в развитии капитализма по юнкерскому типу для усиления власти и доходов помещика, для подведения нового, более прочного фундамента под здание самодержавия»[5].
«...В настоящее время вся правительственная политика направлена к насаждению мелкой частной собственности», — так резюмировал Столыпин свою основную задачу в одном письме к Николаю, протестуя против назначения одного члена Государственного совета именно потому, что тот — славянофил и сторонник общины. Русский юнкер не нуждался более в средневековых орудиях для удержания своего господства над крестьянами? Но это всего менее значило разумеется, что он отказывается от этого господства. Здесь мы имеем тот водораздел, который четко отделял политику Столыпина от позиции Витте. «Совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности» стремилось не только к истреблению общины и замене ее «хуторским владением», — оно ставило в свои программу и «устранение обособленности крестьян в правах гражданских и личных по состоянию, в частности в порядке управления и суда». В этом направлении столыпинщина не сделала ничего: и земский начальник и крестьянский сословный волостной суд остались на своем месте; только последний потерял право пороть крестьян розгами да были отменены ограничения для крестьян при поступлении в средние и высшие учебные заведения. Но последнее было необходимым дополнением к созданию «крестьянина-собственника»: кулак хотел, чтобы его дети «делали карьеру» — и не обижать же было из-за этой мелочи своего будущего союзника, свою надежду и опору. Что же касается розог, то после грандиозных порок и расстрелов 1905–1906 гг. они просто потеряли всякую устрашающую силу. Юнкер привык уже к тому, что крестьянин «слушается» только нагайки, штыка и пули. И розги были сданы в архив вместе со всем прочим «средневековьем».
Поскольку Столыпин выражал лишь общее мнение российского «юнкерства», переход власти в его руки не был крупным переломом в истории аграрного вопроса: основные мероприятия были подготовлены еще комиссией, работавшей в январе 1906 г. при Витте. Но Витте и его правительство не находили возможным приступить к ломке общины без санкции Думы, а I Дума стояла на точке зрения «принудительного отчуждения» помещичьей земли. Оригинальность Столыпина состояла в том, что у него хватило смелости провести вопрос без Думы. В промежутке между I и II Думами, за два месяца до выборов во II, был издан указ 9 ноября 1906 г., предоставлявший право «каждому домохозяину, владеющему землей на общинном праве, во всякое время требовать укрепления за собой в собственность причитающейся ему части из означенной земли». Там, где в течение 24 лет не было переделов, т.е. где община была уже только пустой юридической формой, такое выделение было обязательно. Но и в любой другой общине оно могло быть сделано обязательным по требованию одной пятой части всех домохозяев, если последних было меньше 250 человек, или по требованию 50 домохозяев в общинах более чем с 250 домохозяевами. В случае же передела мог требовать выдела даже каждый отдельный домохозяин. II Дума отнеслась к юнкерскому закону еще более враждебно, чем I, но перевес физической силы был теперь, после разгрома рабочей и крестьянской революции, на стороне правительства, и Столыпин использовал это обстоятельство на все 100%. II Дума была разогнана еще более бесцеремонно, чем I (предлогом послужил подстроенный при помощи грубейшей провокации «заговор» социал-демократической фракции Думы, но на самом деле разгон был решен уже давно, и все нужные «документы» были не только написаны, но и напечатаны, не дожидаясь выполнения всех «формальностей»; Николай подписывал уже печатное...), а чтобы предупредить возникновение третьей революционной думы, в явочном порядке, подобно указу 9 ноября, был издан новый избирательный закон (3 июня 1907 г.), обеспечивавший решительный перевес на выборах помещикам над крестьянами. Не только количество крестьянских выборщиков — и депутатов — было уменьшено, но в большинстве губерний помещики, имея перевес в числа выборщиков, имели в руках полный контроль над выборами депутатов — пропускали того из крестьян, кого хотели. Оттого крестьяне III Думы (собравшейся в ноябре 1907 г.) были, не в пример двум первым думам, очень «смирные», — и указ 9 ноября превратился в утвержденный Думой закон 14 июня 1910 г. Единственной поправкой, внесенной Думою, было ограничение права скупки укрепленных в полную собственность» наделов в одни руки: юнкера добивались создания «крепкого крестьянства», но не помещиков из «чумазых». Такие конкуренты им совершенно не были нужны, да вдобавок и количественно это был бы слишком тонкий слой, чтобы на него можно было опереться.
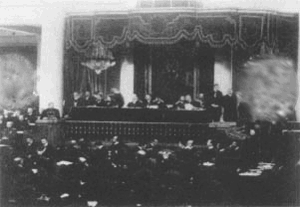
Фигура Столыпина ручалась заранее, что насаждение личной земельной собственности среди крестьян будет проводиться средствами полицейской диктатуры. Правда, было ассигновано 100 тыс. руб. «на издание книг и брошюр, устанавливающих правильный взгляд на аграрный вопрос и разъясняющих сущность распоряжений правительства». Но этот новый метод, оставшийся в наследство от революции с ее огромной пропагандистской литературой по аграрному вопросу (по примеру этой литературы правительственные газеты и листовки тоже рассылались даром, но крестьяне их не всегда брали), гораздо реже давал себя чувствовать, чем старые, испытанные. Так как разрушение общины, выселение на «отруба» (так назывались наделы, отведенные к одному месту) и «хутора» (полные, вновь заводимые, индивидуальные хозяйства) все же в огромном количестве случаев требовало согласия если на всех, то значительной части крестьян, — была пущена в ход 1445-я статья уголовного уложения, каравшая каторжными работами насильственное сопротивление осуществлению кем-либо своего «законного права». После этого количество открыто восставших против столыпинского «землеустройства» должно было очень уменьшиться. Но как с полевыми судами военное начальство, так теперь подгадили Столыпину коронные юристы, председатели и прокуроры, очень «узко» толковавшие эту статью. Пришлось прибегнуть к аппарату министерства внутренних дел, и тот, как всегда, оправдал себя. Крестьяне корреспонденты Вольного экономического общества жаловались, что «земские начальники (недаром они осталась!) всячески понукают к укреплению». Волостные писаря по приказанию земских начальников силою заставляли крестьян составлять приговоры на укрепление в собственность земли, и к ним конечно 1445-я статья не применялась. «Крестьяне долго не желали, но им пригрозили, что будут присланы казаки и они кроме того будут привлечены к ответственности по какой-то статье, карающей неисполнение указа 9 ноября тюремным замком, а не то и Сибирью». Это были меры «поощрительные», а в виде репрессии губернаторы агитировавших против выделения десятками ссылали в административной порядке. Все это сократило сопротивление крестьян до минимума, но все это объясняет нам также, почему община так быстро возродилась во многих местах, как только революция 1917 г. разбила чугунный колпак столыпинщины, а также, почему революционное настроение в деревне, особенно в первые годы столыпинщины, несмотря на разгром открытых форм движения, шло не на убыль, а на прибыль. За 1907 г. мы имеем по всей Россия 2557 случаев крестьянских выступлений (считая и очень мелкие — поджоги, порубки и т. д.), а за 1910 г. — уже 6275 случаев, с лишком вдвое, за 1911 г. — 4567 случаев, почти вдвое. Дальше число этих случаев (или число случаев, получивших огласку?) опять начало падать, —масса, убеждалась, что плетью обуха не перешибешь, и начинала смиряться перед совершившимся фактом. Как надолго и насколько прочно, показал 1917 г.
Но уже задолго до этого времени столыпинское «землеустройство» вызывало настоящую панику среди более наивных помещиков, веривших в «успокоение» и видевших, что от него оставалось при столыпинской политике. «Знаете, чего я боюсь? — писала одна помещица заведовавшему делом землеустройства Риттиху: — Что в конце концов начнется резня между хуторянами и общинниками... А что это значит, вы и сами понимаете... Ради бога, дорогой Александр Александрович, помогите: И прежде всего уничтожьте аресты за агитацию против отрубов. Ведь это возмутительное беззаконие!» Если до Столыпина доходили подобные письма, читая их, он наверное ухмылялся в бороду: начинавшаяся поножовщина между крестьянами явным образом отвлекала внимание последних от помещика. В 1910 г. в черноземной полосе — главном театре крестьянских волнений в 1905–1910 гг. и «землеустройства» при Столыпине — мы имеем 647 поджогов помещиков и 2993 поджога «отрубников» и «хуторян». Внесенная в крестьянскую среду «священная собственность» начинала давать свои плоды[6].
До 1 января 1916 г. было фактически выделено более 2 млн домохозяев из 2,8 млн, заявивших желание выделиться, — это составляло 21,8% всех домохозяев-общинников России; земля, лежавшая под их наделами, составляла 16,4% всей надельной общинной земли (надо иметь в виду, что около 2,8 млн крестьян владели землею на подворном праве до «землеустройства» Столыпина — преимущественно на западе и юго-западе). Но эти средние цифры не дают понятия об интенсивности разложения общины. Дело в том, что юнкерство не одинаково интересовалось ликвидацией остатков «средневековья» в различных районах. Помещики «с черноземной полосы были в общем против реформы Столыпина: для них издавна опаснейшим конкурентом была фабрика, и они имели все основания опасаться, что открепление от земли большей части крестьян — это, как мы увидим, было неизбежным концом «землеустройства» — может лишить их дешевого батрака, поставлявшегося общинными муравейниками. В нечерноземной полосе поэтому грабеж общинных земель поощрялся в минимальной степени; процент выделившихся здесь не превышал 15–17, падая на севере до 6. Не очень много было выделившихся и в Поволжье, где особенно интенсивно распродавались помещичьи земли (в Симбирской — Ульяновской теперь — губернии было продано до 35% помещичьих земель, в Самарской — 37% и в Саратовской — до 40%): здесь «юнкер» просто бежал с поля сражения. Количество выделившихся здесь колебалось около средней по всей России, т.е. около 20–21%. Наиболее густо развал общины шел там, где уже давно развивалось капиталистическое земледелие и где помещик меньше всего мог опасаться конкуренции фабрики: на юго-западе, в «Новороссии», Белоруссии и центральных черноземных губерниях. Здесь число выделившихся было около трети всех общинников, приближаясь на юго-западе к половине (48,6% всех домохозяев). Там, где юнкерству было и нужно и возможно разложить общину, она была разложена примерно на 30%. Этот результат был достигнут в 8 лет. Столыпин считал, что для доведения «реформы» до конца ему понадобится 20 лет. Так как число заявлений о выходе из общины, начиная с 1910 г., неукоснительно падало — в 1914 г. желавших выделиться было уже впятеро меньше, чем в 1909 г., — то ясно, что о выполнении столыпинской программы на все 100% не могло быть речи — и в этом смысле можно говорить о «неудаче» всего предприятия. Но преувеличивать размеры этой неудачи на следует: такого удара средневековым формам землевладения» какой был нанесен в 1906–1910 гг., в России не наносилось еще ни разу, и по широте захвата столыпинская реформа в прошлом имеет только одного соперника — «великую реформу» 1861 г.
Итогом этой последней, мы знаем, было частичное открепление крестьян от земли — частичная пролетаризация крестьянства. Результаты столыпинщины, двигавшейся в том же направлении, не могли быть иные. Из 2 млн выделившихся крестьян продали свои наделы 1200 тыс. — круглым счетом 60%. Отдельные анкеты дают более половины случаев, когда мотивом выделения было именно желание продать надел; столыпинское законодательство открывало двери всем, кто был связан с землей лишь податями, для кого источником существования давно была не земля, а «промыслы», главным образом работа на фабрике. Но что этот мотив не был главным и основным, показывает уже тот факт, что в Центрально-промышленном районе, где он должен был бы господствовать, продали свои наделы всего 2,2% всех домохозяев района (а всего там выделилось 10,7% всех домохозяев — значит продало землю менее 20% выделившихся). Зато в Центрально-земледельческом района продали свои наделы 7% всех домохозяев, т. е. больше четверти всех выделившихся, а в «Новороссии» (теперешняя Южная Украина и отчасти Крымская республика) — даже 12,3%, т. е. почти треть всех выделившихся. Тут продавали уже вовсе не только те, кто был связан с землею лишь номинально и хотел от нее отделаться. Продавала беднота, польстившаяся сначала на индивидуальное хозяйство и скоро убеждавшаяся, что на кошачьем наделе, хотя он и стал «священной собственностью», хозяйничать нельзя. «Означенный закон (т.е. указ 9 ноября) богатым крестьянам дал возможность покупать надельную землю и тем обогащаться, а бедным дал возможность продавать, отчего и выходит из бедняка бобыль, и это выходит не от скупости или мотовства, а от неблагоприятных неудач», писали крестьяне Рязанской губернии. «Продажа наделов иногда оставляла без земли целую семью, — писали из Тамбовской губернии. — Крестьяне, которые продавали свои наделы, оставили своих по два-три сына с семьями без земли и без усадьбы». Цифровые данные подтверждают эту картину продажи земли беднотой. По 12 специально обследованным уездам разных губерний более половины (52,8%) всех продавших наделы имели на более 5 га на хозяйство, а всего таких хозяйств было менее трети, тогда как имевших свыше 10 га на хозяйство было около 18%, а в среде продавцов — менее 10%. По трем волостям Тульской губернии из имевших свыше 12 га продало свой надел менее одного процента, а из имевших до 3 га — 64,6%. Столыпинщина действовала по евангельскому правилу: «Имущему дастся, у неимущего отнимется». Ибо те же цифры показывают, что скупалась земля преимущественно богатеями, часто односельчанами продававших, хотя имеются указания и на специально приезжавших иногда из далеких губерний. По Николаевскому уезду Самарской губернии 86% всей продажной надельной земли было скуплено крестьянами, имевшими уже более 10 га на хозяйство; по упомянутым трем волостям Тульской губернии 44% всей земли скупили крестьяне, имевшие более 22 га на двор. При этом надельная земля сравнительно с помещичьей — мы помним, очень дорогой — продавалась за бесценок: там, где помещичья стоила 121 руб. га, надельная ценилась в — 79; помещичья — 124, надельная — 96 за гектар и т.д.
Совершенно естественно, что для массы населения юнкерская реформа означала разорение. Это очень рельефно показывает следующая таблица[7]:
Приходилось на 100 душ населения:
| Годы |
Лошадей |
Крупного рогатого скота |
Овец, баранов, коз |
Свиней |
| 1905 |
22 |
35 |
45 |
11 |
| 1914 |
20 |
29 |
32 |
10 |
Каждый отдельный крестьянин обеднел от столыпинщины. Достигнутые последней цели были прямой, диаметральной противоположностью тем целям, какие ставила себе революция. Масса хотела поднять свое материальное благосостояние, сбросив гнет помещиков; закрепление этого гнета должно было означать падение материального благосостояния массы. Эта противоположность столыпинщины и революции особенно хорошо рисуется таблицей, показывающей перемены в количестве крестьян, пожелавших выйти из общины, из года в год[8].
Число хозяев предъявивших, требование об укреплении земли в собственность
| 1907 |
211 922 |
1912 |
152 397 |
| 1908 |
840 059 |
1913 |
160 304 |
| 1909 |
649 921 |
1914 |
120 321 |
| 1910 |
341 884 |
1915 |
36 497 |
| 1911 |
242 328 |
Итого: |
2 755 633 |
Последние цифры относятся уже к военным годам, когда «землеустройство» пришлось приостановить ради сохранения «гражданского мира»: солдаты крайне нервно относились ко всякому переделу земли в тылу без их участия, а на сторону солдат становилось и их начальство: главнокомандующий армиями северного фронта считал необходимым «письменное согласие заинтересованных нижних чинов или личное их присутствие для производства землеустройства», предлагая даже давать солдатам для этой цели отпуска на 4–6. недель.
Если мы откинем эти военные годы, когда столыпинщина начинала терпеть неудачи и на внешнем и на внутреннем фронтах, мы легко заметим в таблице две волны подъема. Первая соответствует 1908 г., когда число заявлений увеличилось сравнительно с предыдущим годом почти вчетверо. Это было крушение II Думы, окончательное подавление массового движения и утрата всяких надежд на то, чтобы революционным путем взять землю. Масса малодушных хлынула в ближайшие два года по «легальной» дороге. Но дорога оказалась усыпанной терниями, и уже с 1910 г. поднимается, мы помним, число революционных выступлений в деревне и падает число заявлений о выходе из общины, падает число желающих идти «легальным» путем. Затем революционные надежды снова блекнут, и снова увеличивается число заявлений о выходе, в 1913 г. Но тут является великий ускоритель революции — война, и движение по «легальной» дорого замирает окончательно, чтобы более не воскреснуть.
Итак столыпинщина разоряла русское крестьянство в массе. Значит ли это, что она давала только отрицательные результаты? Еще и еще раз — не значит. Она вела русское народное хозяйство вперед по неизмеримо более тяжелому и дорогому для массы пути, чем каким была бы удачная революция, — но она вела его вперед, а не назад. Она покупала прогресс ценой экономической, а иногда и физической, гибели «слабейших», т.е. большинства, но меньшинство «сильнейших» она действительно превращала в то «крепкое крестьянство», о котором мечтали юнкера как о своем союзнике. И кулацкие восстания 1918–1919 гг. доказали, что мечтания были не праздные.
Мы видели, что в общем количество рабочего скота у крестьян за столыпинский период уменьшилось. Но не у всех одинаково. В Епифанском уезде Тульской губернии например процент хозяйств без лошадей у общинников достигал к 1911 г. 40, а у «выделявшихся» — только 12 лошадей на одно хозяйство у первых было менее одной (0,91), у вторых — почти две (1,64). Но тут надо иметь в виду, что при объединенной к одному месту пашне рабочего скота нужно меньше, чем при чересполосице; вот почему в отдельных случаях мы видим даже уменьшение количества лошадей у выделявшихся, что вовсе не означает непременно ослабления их хозяйств.
Показательнее изменения в составе мертвого инвентаря. На сто хозяйств приходилось:
| |
До выделения |
После выделения |
| Плугов |
60 |
84 |
| Борон железных |
5 |
12 |
| Сеялок |
2 |
3 1/2 |
| Жаток и сенокосилок |
8 |
12 |
| Молотилок |
3 |
5 |
По Симбирской (Ульяновской) губернии процент хозяйств с усовершенствованным инвентарем у общинников был ниже 70, у «выделившихся» — 86,1; удобряли землю из первых 72,5%, из вторых — 94,4%. По Богородицкому уезду Тульской губернии средняя стоимость инвентаря на хозяйство до выдела составляла 27 руб., после выдела — 48 руб. Но при этом низшие группы выделившихся — до трех га — были почти на 70% без всякого инвентаря (до выдела — менее 60%), тогда как у высших групп, имевших свыше 20 га на двор, стоимость инвентаря увеличилась почти вдвое (107 руб. и 207 руб. на хозяйство).
Но самое главное — выделившиеся в конечном счете (в силу указанной выше массовой распродажи более мелких из «укрепленных» наделов) лучше были обеспечены землей, чем общинники. По Епифанскому уезду Тульской губернии у хуторян было 8,3 га посева на одно хозяйство, у общинников — немного более 4. В Псковской губернии у хуторян приходилось на двор 26 га, у прочих крестьян — 10; в Тверской у первых — тоже 26, у вторых — 15,7. В Богородицком уезде Тульской губернии на 1 двор хуторяне имела 20,2 га, отрубники — 10, а все крестьяне вообще — менее 8,2. Если мы вспомним, что большинство «укрепившихся» продавали свои маленькие наделы потому, что не у чего и не на чем было хозяйствовать, мы легко поймем механику этого «естественного отбора». Но это не была только механика. Способ проведения столыпинской реформы — полицейским нажимом сверху — вносил в эту «механику» совершенно определенный социальный привкус; его хорошо можно почувствовать на одном живом примере, — что он относится не к надельной земле, а к земле, купленной у банка, это безразлично. О хуторянах Казанской губернии один корреспондент писал: «Состав хуторян в первую очередь местные —волостной писарь, сельский учитель, полицейский урядник и бывший сиделец казенной винной лавки... Все эти лица до этого времени не занимавшиеся лично ведением сельского хозяйства, т.е., как говорят про них крестьяне, «не бравшие в свои рука ни сохи, ни бороны», захватили однако почему-то — при отсутствии в их семьях наличных работников — по два земельных участка в 14 казенных десятин каждый, обстроились удовлетворительно, затратив на это до 300–500 руб. да на живой и мертвый инвентарь по 150–200 руб.».
Но таким или иным путем сельская буржуазия возникла. Что она представляла собою в экономическом отношении? Прежде всего, если возьмем период до столыпинщины — 1901–1905 гг. — и период после столыпинщины — 1911–1915 гг., — мы имеем расширение площади посева, доходящее местами до 55, даже до 75%. Поскольку это увеличение приходится на «колонии» (Северный Кавказ, Сибирь, Степной край), тут конечно главную роль играла колонизация: здесь был громадный неиспользованный фонд, и хозяйство, оставаясь очень экстенсивным, могло все же расширять площадь своей эксплуатации за счёт нетронутой целины. Но если мы откинем эти земли и возьмем старый черноземный центр, где, казалось, все уже было распахано к концу XIX в., мы и здесь найдем увеличение посевной площади почти на 8%. Это было уже несомненное начало интенсификации, переход к обработке земель, которые при старых способах обработки считались «неудобными» и которые новый, более сильный, хозяин смог пустить в оборот. Если мы возьмем урожайность и старой и новой посевной площади в центнерах с гектара мы получим:
| Среднее за |
Рожь |
Пшеница |
Овес |
Ячмень |
| 1901–1905 гг. |
7,28 |
6,67 |
7,15 |
7,33 |
| 1911–1915 гг. |
7,96 |
6,66 |
7,69 |
7,90 |
Характерным образом больше всего отстает пшеница, которая сеялась больше всего именно в «колониях», где господствовала самая экстенсивная культура, а более всего увеличились урожаи ржи — старого основного крестьянского хлеба. Само собою разумеется, что появление сельской буржуазии могло лишь в небольшой степени отразиться на средних цифрах, поскольку единоличные хозяйства, за вычетом проданных наделов, составляли не более 10% всех крестьянских хозяйств. Наблюдений над непосредственной разницей хуторских и общинных урожаев было сделано слишком мало, чтобы можно было сделать выводы в масштабе всей страны, но то, что говорят отдельные наблюдения, подтверждает общий вывод. В Тульской губернии в 1912 г., при среднем урожае по всем крестьянским землям 5,2 ц ржи с гектара, хуторяне сняли 9,8 ц; для овса соответствующие цифры будут 7,7 и 13,5 ц. На юге, в Бердянском уезде, общинная пашня дала в среднем за 1912–1913 гг. по 6,5 ц для озимой пшеницы и по 8,1 ц для ячменя, а хуторяне сняли по 10,2 ц. пшеницы и по 10,4 ц ячменя. В Николаевском уезде по яровой пшенице у общинников родилось по 4,7 ц у хуторян — по 7,5 ц на гектаре.
Всеми правдами и неправдами сельскую буржуазию Столыпин начал создавать, и это давало себя чувствовать целым рядом признаков уже вне области сельского хозяйства в тесном смысле этого слова. Потребление кровельного железа в России с 1905 по 1913 г. увеличилось почти вдвое (219 тыс. и 414 тыс. т). Душевое потребление сахара с 6 кг в год в 1905/06 г. увеличилось до 7,8 кг в 1912/13 г. Ввоз сельскохозяйственных машин «простых», т.е. потребляемых преимущественно мелким хозяйством, с 17,1 млн руб. в 1909 г. вырос до 23,7 млн руб. в 1913 г. Вместе с сельской буржуазией рос рынок, — вместе с рынком росла промышленность. Переработка хлопка с 324 тыс. т в 1908/09 г. дошла до 391 тыс. т. в 1912 г.; выплавка чугуна — с 2,8 млн до 4,6 тыс. т; добыча угля — с 26,3 млн до 36,3 млн т. Хлебный вывоз сравнительно с началом столетия увеличился почти вдвое (приняв 1900 г. за 100, в 1911 г. мы имеем 186). Количество принятых русскими железными дорогами грузов возросло с 17,4 млн т в 1905–1909 гг. до 20 млн т в 1910–1914 гг. — на 23%, причем в первом случае вывозилось за границу 12,4 тыс. т, а во втором — только по 11,5 тыс., т.е. внутренний рынок поглощал в первом случае всего 5 млн (не считая конечно продаж и покупок на месте, на уездных рынках), а во втором — почти 10 млн т. Было бы конечно крайне наивно относить все это преуспеяние насчет столыпинской политики. Но она все же создавала иллюзию быстрого и надежного хода по буржуазным рельсам, и несомненно, что столыпинщина не задерживала, а подталкивала, движение, создававшееся целым рядом причин, прежде всего благоприятной конъюнктурой на хлебном рынке, высокими ценами на хлеб. И у тех поверхностных наблюдателей, которые приходили в такое отчаяние от первых успехов столыпинщины, от картины безнаказанного разгона двух первых Дум, холопства третьей, безудержного разгула полевых судов, картина этого буржуазного прогресса, возглавляемого Столыпиным, создала самый странный и вполне контрреволюционный энтузиазм. Эти люди ждали, что «капиталистическое развитие деревни будет неуклонно идти вперед и параллельно этому будут отмирать остатки крепостнического хозяйства». Никакой новой «бури», никакой революции для сметения этих «остатков» не понадобится: аграрная революция в России более невозможна, а рабочим остается только «мирным путем» отстаивать свои права.
У писателей этого типа, — сейчас цитированные и несколько мною сокращенные слова принадлежат покойному Н.А. Рожкову, — наивный оптимизм по отношению к, столыпинщине характерно смешивался со столь же наивным пессимизмом по отношению к массам. Они не договаривались до Поприщина, но мысленно были недалеки от этого. Поражение масс в открытом бою им казалась полным и окончательным. Делай, с ними, что хочешь. Они забывали, что крестьянин начал борьбу с помещиком за землю не в 1905, а в 1605 г., и не прекращал ее, мы видели, даже в разгар столыпинщины. И не полицейскими мерами можно было оборвать вековой процесс в пользу помещика. Они забывали, что в Западной Европе «мирное» разрешение аграрного вопроса было связано с полным переходом на буржуазные рельсы, а Столыпин не мог отказаться даже от земского начальника.

«Я не отрицаю возможности «прусского» пути (т.е. победы юнкерской политики), — писал Ленин в декабре 1909 г.— ...Я признаю, что политика Столыпина делает еще шаг вперед по «прусскому» пути и что на этом пути на известой ступени может наступить диалектический перелом, снимающий с очереди все надежды и виды на «американский» (т.е. революционный — М. П.) путь. Но я утверждаю, что сейчас этот перелом наверное еще не наступил...» «У нас еще идет борьба. Еще не победил один из двух аграрных путей. У нас при всяком кризисе нашей эпохи (1905... гг.) выступит, обязательно выступит «общедемократическое» движение «мужичка», и игнорирование этого было бы коренной ошибкой»[9].
Опубликовано: Покровский М.Н. Русская история в самом сжатом очерке. Ч. III: Двадцатый век. Глава X. Столыпинщина. Вып. 1: 1896–1908 гг. М., 1931. – С. 328-355.
Сканирование и обработка: Сергей Агишев.
По этой теме читайте также: