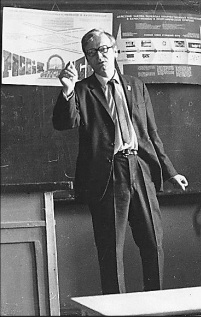Еще не окончилась война, а многие московские вузы открыли подготовительные отделения для всех, кто в военные годы не закончил десятилетку, пройдя лишь восьмой или девятый классы. Открылось такое отделение и в Московском химико-технологическом институте им. Д.И. Менделеева («Менделеевке»). Моя сестричка поступила туда. Я никогда не хотел от нее отставать. Еще в 1935 году, когда она, восьмилетка, пошла в первый класс, я (младше на год и три месяца) заявил, что «без Лельки дома не останусь». Пришлось отцу упрашивать школьного директора, чтобы приняли нас обоих. Но вскоре выяснилось, что сестре моей, очень способной и развитой, в первом классе делать нечего, и ее перевели во второй. Я же остался в первом классе.
Теперь картина в чем-то повторилась. Леля, закончившая в Глазове девятый класс, быстро осваивала программу подготовки в «Менделеевку». Я же, вернувшись из Глазова после восьмого класса, «спотыкался» на математике (моя ахиллесова пята) и явно «не тянул». На семейном совете решили: идти мне в школу.
254-я школа ДОНО
В Отделе народного образования Дзержинского района (ДОНО)
меня направили в школу № 254. Инспекторша сказала:
— Там один десятый класс на весь район. И то еле наскребли. Так что смотри, не подкачай...
Школа находилась на 3-й Мещанской улице (тогда еще не переименованной в улицу Щепкина), почти на углу с пересекающей ее улицей Дурова (бывшей Божедомкой). Рядом — посольство, не помню какое.
Недалеко уже находилась 1-я Мещанская (проспект Мира) с ее высокими домами, построенными, видимо, в начале века. На /70/ одном из них запомнилась надпись, сделанная после революции:
«Вся наша надежда на людей, которые сами себя кормят».
В десятом классе, куда я пришел уже после начала занятий, было всего четырнадцать человек. В военные годы не говорили:
«Сколько тебе лет?», а спрашивали: «С какого ты года?». Из ответа на такой вопрос скорее можно было понять, когда призываться.
Почти все четырнадцать человек были с 28-го года, то есть если бы продолжилась война, то мы подлежали призыву, скорее всего, осенью 45-го года. Но война подошла к нашему году и остановилась на нас.
Меня посадили за парту рядом с пареньком по имени Марк Желнов. Оглядев меня с ног до головы, он спросил:
— У тебя по литературе сколько было?
— Пять, — ответил я.
— Он пообещал:
— У нас три будет...
Он похихикивал в нос и потирал при этом руки. Казалось, он делает это специально, чтобы заставить собеседника смутиться, почувствовать себя неловко. Впрочем, возможно, это была просто дурная манера. Много-много лет спустя, когда Желнов уже стал доктором философских наук, профессорствовал в МГУ и писал толстые книги о Фоме Аквинском, при встречах он все так же хихикал и потирал руки. Жил он с матерью в отдельной однокомнатной квартирке на первом этаже большого дома, по-видимому, построенного в 30-е годы, у выхода 4-й Мещанской на Колхозную (бывшую Сухаревскую) площадь. Как раз напротив кинотеатра «Форум». Туда мы ходили чаще всего. Были еще «Уран» на Сретенке и «Перекоп» в Грохольском переулке. Но «Форум» привлекал больше всего: там внизу был буфет, в холле перед началом сеанса играл оркестр и пела певица, одетая в красивое длинное платье. /71/
Много лет спустя стало известно, что эта певица была мамой поэтического кумира 60-х годов Евгения Евтушенко.
Мои товарищи…
С Желновым я не сошелся. Через некоторое время пересел на другую парту, к Игорю Полозову. Это был красивый парень, с густыми волнистыми волосами, падавшими на лоб. Самые лучшие девчонки двух соседних женских школ были по уши влюблены в Полозова, о чем он хорошо знал, но почти не обращал внимания. С Полозовым мы сдружились. Он жил в большом красно-кирпичном доме во дворе между Цветным бульваром и Трубной улицей. Семье его принадлежала там отдельная трехкомнатная квартира, что тогда являлось редкостью. Был у Игоря старший брат, по-моему, капитан, служивший в гвардейской Таманской дивизии под Москвой. Иногда Игорь приглашал меня, чтобы вместе готовиться по литературе или истории. Мама его была красивой и приветливой женщиной. Отец производил другое впечатление: неразговорчивый, строгий, даже сердитый. Был он писателем, если можно так сказать, средней руки. Под псевдонимом Павел Березов популярно писал главным образом на исторические темы. Одна его небольшая книжка — «Падение двуглавого орла» — была посвящена Февральской революции 1917 года, и еще в 60-х — 70-х годах упоминалась в сносках некоторых научных трудов: о Февральской революции тогда мало писали.
А в молодые свои годы Павел Иванович Полозов (Березов) вращался в кругу поэтов Серебряного века, сам писал стихи. Глядя на него — замкнутого, холодного, — это казалось странным: неужели люди так меняются с годами? У него имелась большая библиотека со стихами поэтов, которых давно не печатали и которых наше поколение почти не /72/ знало. Это были Ахматова, Гумилев, Блок, Бальмонт, Брюсов, Северянин, Есенин, Крученых, Каменский, Саша Черный и другие. Он собирал их, очевидно, еще в предреволюционные годы и в 20-х годах.
Игорь иногда приносил старые, затрепанные сборники стихов в школу, и мы их на переменках часто читали вслух. Особым успехом пользовались такие противоположности, как есенинская «Москва кабацкая» и северянинские «поэзогрезы». Оба поэта тогда не издавались, пребывали под запретом за свою «безыдейность». Но Павел Иванович Полозов, сам того не ведая, просвещал нас в знании поэзии.
Другим одноклассником, с которым я сблизился, был Виталий Свинцов — слегка сутуловатый парень, одетый в китель, галифе и сапоги. В военном обмундировании, впрочем, тогда ходили многие. Сапоги, которые по-блатному назывались «прохоря», носили почти все. Но на Виталии была офицерская форма.
С отцом и матерью он приехал в Москву лишь в 44-м году. Отец его — Иван Иванович Свинцов — являлся кадровым военным, получил генеральское звание и был командирован в Министерство обороны. А маму звали Надежда Израилевна. Жили они в военной гостинице на площади Коммуны, рядом с парком ЦДКА, а когда получили квартиру в только что выстроенном «генеральском» доме на Соколе, Виталий не захотел расставаться с классом. Так и ездил в школу с Сокола. Мы с Игорем часто бывали там, в большой двухкомнатной квартире. Сначала она была почти пустая — только кровати да стол, но сразу же после войны генерал Свинцов съездил в Германию и, видимо, по какой-то разнарядке получил там мебель, посуду и другую утварь. В коридоре долго стоял мотоцикл «Харлей», а в каждой комнате — по пианино. На одном из них мы поочередно учились играть «Темную ночь» — знаменитый шлягер, как теперь сказали бы, из фильма «Два бойца», с Марком Бернесом и Борисом Андреевым. /73/

Наша троица неплохо разбиралась в книгах из библиотеки писателя Березова. Это довольно быстро заметила наша учительница литературы, пожилая женщина со страдальческим лицом. Не скажу, что мы вели себя по отношению к ней как-то напоказ неуважительно. Но она, вероятно, чувствовала наше некое превосходство и мальчишескую иронию. В качестве противодействия бедная наша «училка» выбрала совершенно ошибочный метод.
— Полозов, — говорила она на уроке, — в перемену подойдите ко мне.
Полозов подходил. Тогда, отведя его в сторону, она негромко поучала:
— Полозов, вы такой способный юноша. Зачем вы дружите со Свинцовым и Иоффе? Они плохо на вас влияют, вы должны это иметь в виду. /74/
В другой раз таким же образом она подзывала Виталия Свинцова и внушала ему:
— Свинцов, вы же очень талантливый человек, у вас большие перспективы. Не надо только дружить с Полозовым и Иоффе. Ничего не хочу сказать плохого, но им далеко до вас.
Сходную «операцию» она проделывала и со мной. Видно, только чувство, близкое к отчаянию, толкало ее на весь этот примитив. Неужели в ее голову не приходила мысль, что все ее увещевания мы передадим друг другу с веселым смехом?
Сто граммов хлеба дополнительно
Нас было четырнадцать. Помню почти всех. Вот парень с Самотеки Валька Ерошкин, одетый в синий цивильный пиджак и сапоги; два дружка — Кутасов и Власов — будущие два доктора математических наук; еще два дружка — крепкие, коренастенькие Прокунин и Талянкер. Мой «земляк» по 3-й Мещанской Генка Петухов («Петух»), ставший генералом. Часто по утрам, направляясь в школу, мы сходились с ним у «Мажарина» — продовольственного магазина, сохранившего свое название по фамилии хозяина еще с нэповских, а может, и дореволюционных времен. Все так и говорили: идем к «Мажарину». Был еще маленький Фрадкин, отец которого играл в оркестре Утесова. Мы звали Фрадкина так: Фрадкин-Фридкин-Гефрудкин. Вскоре он ушел.
На задней парте в среднем ряду сидел слепой парень Пятницын. Его приводили в класс родные, он всегда внимательно слушал учителей, учился очень хорошо. Позже стал доктором философских наук. /75/
Потом в класс пришел Долгов. Его семья приехала из Донбасса, из Краснодона, ставшего знаменитым благодаря роману А. Фадеева «Молодая гвардия», который печатался в «Знамени» и «Комсомолке». У Долгова выспрашивали:
— Ты Олега Кошевого-то знал?
Он отвечал:
— Нет, лично нет. Он — постарше.
— Но хоть видел?
— Ну, это да!
— Какой он был-то?
— Правильный комсомолец! Чуть что — он сразу в комитет комсомола. Как «Тимур и его команда».
— Брешешь ты все, Долгушкин. Не знал ты Кошевого.
— А чего тогда спрашиваете?
На большой перемене дежурный брал деревянный поднос, стоявший в шкафу, и шел с ним в школьную столовую. Там, в соответствии со списком присутствовавших в классе, ему выдавали куски черного хлеба — каждый точно по сто граммов. Мы получали дополнительное питание. Конечно, такой голодухи, как в 41-м — 42-м годах, уже не было. Война шла к победному концу. Жизнь потихоньку налаживалась, лучше становилось и с едой. Но хлеб и другие продукты все равно выдавали строго по карточкам: рабочая карточка — восемьсот граммов, для служащих — шестьсот, иждивенцам полагалось вроде бы четыреста граммов хлеба. А нам выдавали еще по сто граммов вкуснейшей «черняшки».
Когда, бывало, в классе случалось какое-нибудь ЧП и классный руководитель — математичка Анна Дорофеевна, высокая, худая, изможденная женщина — не могла решить вопрос, являлся сам директор — Иван Иванович Винокуров. Евгений Евтушенко, который жил на 4-й Мещанской и тоже одно время учился в нашей школе, но, кажется, двумя или тремя классами /76/ ниже, в своих мемуарах «Волчий билет» называет его альбиносом. По-моему, Евтушенко ошибся. Иван Иванович был высоким, стройным человеком с пышной, совершенно седой шевелюрой. Солидность и значительность придавало ему и пенсне, которое он носил. При его появлении все мы тут же вставали, грохоча крышками парт. В таком положении он держал нас несколько минут, потом коротко командовал:
— Сесть!
Все садились. Опять наступало тягостное молчание. Затем, поочередно называя фамилии, Иван Иванович приказывал встать каждому в отдельности. Названный поднимался. Указывая на него, Иван Иванович вопрошал:
— Признаешь себя виноватым?
Следовал отрицательный ответ.
— Сесть! — командовал Иван Иванович.
Когда таким образом оказывались опрошенными все присутствовавшие, Иван Иванович произносил небольшую речь.
— Вас здесь четырнадцать человек. Всего четырнадцать. На весь огромный наш район. В силу чего так получилось? В силу, если хотите, естественного отбора. Жизнь, а может быть, сама мать-природа уберегла вас. Вот вам дают дополнительно хлеб. Вам дают, значит, от кого-то отрывают. А почему? Потому что страна наша рассчитывает на вас.
Кто-нибудь на задней парте, не выдержав патетики, тихонько прыскал, но грозным взглядом Иван Иванович останавливал смешок.
— Неужели произошла ошибка природы? Неужели отобраны не те, на кого рассчитывает страна, кому она вручит свое будущее после этой страшной войны? Ведь ни у кого из вас не находится мужества и честности признаться, осудить свое поведение! Ни у одного! /77/
Класс угрюмо молчал. На лице Ивана Ивановича появлялась презрительная гримаса.
— Эх, вы! — произносил он с отвращением и, уже покидая класс, бросал на ходу: — Болото! Топь!
Теперь много пишут о насильственном идеологическом воспитании, промывавшем мозги нам — «совкам». Напоминание Ивана Ивановича о некоем «естественном отборе» для будущих свершений ради своей страны — вот, пожалуй, и все, что осталось в памяти. Учили нас только хорошему: бескорыстию, скромности, честности, товариществу, всему тому, что теперь в таком дефиците.
Мы вошли в жизнь в годы войны, и она осталась с нами навсегда. Мы все измеряли «по войне», по тому времени, по его людям.
Гори, свети, огарочек,
Гремит недальний бой,
Налей, дружок, по чарочке,
По нашей фронтовой...
Учителя
Иван Иванович Винокуров не часто приходил к нам в класс: ЧП случались редко. Но однажды произошел «исторический бунт». Историю преподавала относительно молодая женщина (имя ее забыл), которая явно была к этому не готова. На уроках она просто пересказывала учебник академика А.М. Панкратовой, написанный схематично по содержанию и вяло-занудно по стилю. Класс учительницу не слушал. Во время ее объяснений шли разговоры, на замечания дерзили, всячески проявляли свое нерасположение. Она, бедная, покрывалась /78/ красными пятнами, щеки ее пылали. Но перебороть обстановку, подчинить класс не могла. Она боялась нас — это было видно. Вероятно, в учительской или в кабинете директора дело доходило и до слез, потому что однажды в класс явился Иван Иванович. Он опять говорил, что мы не оправдываем закона естественного отбора и надежд страны, что мы — болото и топь.
— До слез доводите человека, — сказал он. — Не хочет она с вами работать. На той неделе придет к вам другой преподаватель. Я вас предупреждаю: больше безобразий не потерплю.
Через несколько дней Иван Иванович привел в класс массивного, громоздкого старика с моржовыми усами и представил:
— Владимир Яковлевич Рабинович. Он будет преподавать вам историю.
Зимой в классе было холодно. Мы сами часто сидели за партами кто в шинелях, кто в так называемых телогрейках — ватниках, которые были, кажется, самой «модной» тогда одеждой. Старик Рабинович и подавно мерз. Он всегда восседал за учительским столиком в накинутом на плечи поношенном зимнем пальто с вытертым меховым воротником. С собой приносил солдатский котелок с едой — то ли кашей, то ли картошкой или еще чем-то — и в большую перемену отходил к окну, ставил свой котелок на подоконник и съедал содержимое.
И при Рабиновиче мы учили историю «по Панкратовой»: это был единственный «стабильный» учебник. Но объяснял наш старик совсем не по учебнику.
У него была «фирменная» фраза, с которой он начинал рассказ:
— Ребята спросят...
Дальше следовал вопрос, который, как он считал, должны
«задать ребята», и пространный ответ на него. Например, он вопрошал:
— Ребята спросят, а почему же Ленин так упорно настаивал на немедленном восстании?
С последней парты Валька Ерошкин поначалу подавал голос:
/79/
— Да, интересуемся!
— Сейчас, сейчас, — говорил Рабинович. — Минуточку! Сейчас объясню.
И очень увлекательно, интересно рассказывал. И Валькин голос как-то постепенно замолкал. История в рассказах нашего нового учителя превращалась из скупых, надоевших
«закономерностей», «неизбежностей», «обусловленностей» в живую картину поступков и взаимодействий людей. Вот он рассказывает нам о наступлении деникинской армии на Москву в 19-м году.
— Ребята спросят — почему же она потерпела поражение, почему большевики, которым уже пели отходную, устояли?
И среди других факторов и причин упоминает генерала Май-Маевского, талантливого полководца, но пьяницу.
Это может кому-то показаться странным, но два-три такого рода исторических рассказа Владимира Яковлевича Рабиновича изменили мое отношение к истории. Раньше она представлялась чем-то совершенно отдаленным, мало, а то и совсем никак не связанным с нашей жизнью, просто одним из скучных «предметов», подлежащих зубрежке. Но в повествованиях старика прошлое оживало, входило в наше время.
В накинутом старом пальто, нахохлившись, старик сидел за учительским столиком, никогда не глядя по сторонам. Генка Петух, великий выдумщик, пользовался этим. Вызванный к доске, он отходил немного назад и, прикрыв полой шинели панкратовский учебник, «шпарил» по нему свой ответ. Вслед за Петухом и другие стали практиковать такой «метод». Но однажды старик сказал:
— Кого вы хотите обмануть? Меня? Я не боюсь быть обманутым. Я многое повидал. Вы себя обманываете, даже обкрадываете. /80/
Генка Петух сейчас же пустил слух, что у Рабиновича есть «затылочное зрение», и благодаря ему он когда-то тайно был заброшен в деникинский штаб, что и обеспечило победу красных.
На уроках истории я стал понимать, что такое настоящий Учитель, что он может сотворить. Физику у нас преподавал Ефим Емельянович Жебров — маленький, плотно сбитый старикан с ежиком седых волос на голове. Строгий, насупленный, даже суровый. Любое нарушение или непослушание резко пресекал, никаких поблажек никому никогда не делал. Его наша вольница побаивалась. Но у Емельяныча был божий дар «втолковывания». Не то, чтобы он умел понятно и доходчиво объяснять. Но он обладал способностью раскрыть, расщепить какую-то «зажатость» в мозгах тех, кто уже привык считать, что физика — это не для него, что к физике он просто от природы неспособен. Жебров не признавал слов «не могу».
— Как не можешь? — каркал он. — Не можешь — научим. Не хочешь — заставим! «Не могу» — такие слова вон!
Происходило чудо: по физике все мы учились только на четыре или пять, больше даже на пять.
А если бы все учителя были такими, как Жебров?
Увы, были и совершенно другие. Например, Абдулла — военрук и физрук. Кто и когда назвал его Абдуллой — этого никто не знал. Но все его так звали, и он был Абдулла и больше никем. В его распоряжении находился большой зал, но мы приспособили его для игры в футбол, а самого Абдуллу — в «шухерного» на лестничной площадке. Мы играли до умопомрачения, гоняли до седьмого пота какую-нибудь деревяшку, а Абдулла стоял «на шухере» и подавал нам сигнал в случае приближения опасности, например, директора. И все шло хорошо и плавно, но вдруг... /81/
При зале имелся маленький кабинет, а там, в специальном ящике (это мы хорошо знали), находились две малокалиберные винтовки. Это был большой соблазн: какому пацану пострелять неохота!? Кто, как и когда открыл ящик с малокалиберными винтовками — так и осталось загадкой на все времена… Наутро Абдулла вошел в наш класс с откровенно заплаканными глазами. Дрожащим голосом он произнес:
— Не ищу концы, не хочу знать, кто держит ленту и куда она ведет... Об одном прошу — к вечеру чтоб винтовки на месте были... Не будут — поймите, мне крышка. Ведь могу под суд пойти. Ребята, прошу — не погубите! Я фронт прошел...
Шаркая ногами и как-то скособочившись, Абдулла вышел из класса. Днем мы — Игорь Полозов, Виталий Свинцов, Валька Ерошкин и я — собрались в своем заветном месте: на Самотеке, под часами. Перешли на другую сторону, в Екатерининский сквер, сели на скамейку.
— Ну как, утрем слезы Абдулле — вернем винтовки по-тихому? — задал вопрос Полозов.
— А зачем тогда тырили? — спросил Валька. — Оружие при себе
— это надега. Шпана из Выползова переулка атакует школьные вечера. Вон Галке Масковой из 235-й школы щеку лезвием бритвы «пописали», а будь у нас малокалиберка, мы бы...
— Все равно, — сказал Виталий, — винтовки надо вернуть. Жаль Абдуллу, да и дело вообще может кончиться плохо... Надо вернуть, как хотите. Точка.
Я кивнул головой.
На другое утро Абдулла вошел в класс раньше звонка. Он весь сиял. В костюме с иголочки, белая рубашка с ярким галстуком. Надушенный, напудренный... Потирает руки.
— Ну, ребятишки, спасибо вам! Выручили. По гроб не забуду. Первый урок у вас мой? Идите в зал гонять в футбол, а я посмотрю… /82/
Девушки нашего времени
Наша мужская школа находилась между двух женских школ. Одна из них тоже была на 3-й Мещанской, напротив большой церкви, тогда, естественно, не действовавшей. У школы был большой двор, и мы иногда ходили туда погонять в футбол. (Кажется, в 60-х годах во дворе установили памятник космонавту В. Комарову, который учился в этой школе в 50-х годах и позднее погиб в космическом полете.)
Другая женская школа находилась подальше от нас — за Садовым кольцом, между Сретенкой, Колхозной и Трубной улицами. С десятиклассницами этих школ у нас, по-моему, раз в две недели был общий урок — астрономия. Проходил он в Планетарии, на Садово-Кудринской. Урок этот ожидался с некоторым волнением. Почти у всех были знакомые из женских школ, и потому, в каком-то смысле, уроки астрономии превращались в свидания. Мы обычно приезжали раньше, становились вдоль дорожки, которая вела от ворот к зданию Планетария с большим куполом, и «небрежно» высматривали своих знакомых. А они все шествовали, как бы не обращая на нас внимания.
Я же напряженно высматривал свою знакомую. Ее звали Инна Корсакова. Мы учились вместе с первого класса. Школа наша тогда находилась в здании, похожем на старинную церквушку, затесавшуюся в захолустном Малом Екатерининском переулке. Инка была маленькая, худенькая и курносая. В школу ее приводила мама. После уроков встречала и уводила домой.
Потом в Москве развернулось колоссальное школьное строительство. Повсюду воздвигались типовые четырехэтажные здания из красного кирпича с длинными коридорами и просторными, светлыми классами и кабинетами. Многие и по сей день не утратили своего назначения. К третьему классу /83/ нас перевели в одну из таких школ на Трифоновской улице (№ 607), и в ней мы проучились до конца шестого класса. В это время Инна мне уже потихонечку нравилась. Потом началась война, и мы потеряли друг друга из виду. Честно говоря, я и забыл о ней. Встретились только осенью 44-го. Ее трудно было узнать, и она казалась мне тогда чуть ли не кинозвездой тех лет Диной Дурбин. Я учился уже в десятом классе, она — тоже. Я стал заходить к ней, в маленькую «спичечную» коммуналку, чтобы пригласить на каток в парк ЦДКА. Она уже подходила к начальной «невестинской черте», и ее мама хорошо понимала, что девушке надо бывать в «обществе». А на каток приходило много разных ребят из нашей и других мужских школ.
Мы часами бродили по улицам, бульварам, паркам и разговаривали о настоящем и будущем.
— Вот закончу школу, — как-то сказал я, — потом институт
и сделаю тебе предложение. Согласишься?
— Мама, наверное, не разрешит, — ответила она.
— Почему?
— Она не любит евреев.
— А папа?
— Папа? Скажу... Только это секрет. Папа пьет. Редко бывает трезвый.
— Вот его-то мы и спросим!
Но не антисемитизм Инкиной мамы являлся моим кошмаром. Им стал угол Трифоновской улицы и нашего Орловского переулка.
На противоположной стороне переулка, возле своего дома-развалюхи обычно стоял лохматый, слюнявый Колян и, завидев меня, орал во все горло:
— Эй, жид!
Если я шел один, это было еще ничего. Я старался поскорее проскочить проклятый угол и скрыться из виду. Но Колян /84/ не щадил меня и тогда, когда со мной рядом была Она. Наоборот, в этом случае его «жидовский позывной» звучал еще громче. Кровь приливала к моей голове, тарахтело сердце, слабели ноги. Лучшее, что я бы мог сделать, — это провалиться сквозь землю... Спасибо Инне. Она делала вид, что не слышит. Но не могла не слышать. Я проклинал себя.
Но настал и мой день. С соседом по квартире Колькой Моховым мы шли в баню. Дорога проходила через наш старый церковный двор, запущенный и захламленный. Повсюду валялись деревяшки, железки, кирпичи. Я посмотрел вперед и увидел шедшего нам навстречу Коляна. Мохов не без любопытства покосился на меня: ему были известны коляновские «жидовские» выкрики. Колян поравнялся с нами, слегка толкнул меня и привычно произнес свое «фирменное»: «Эй, жид!».
Я нагнулся, поднял с земли кирпич весом, наверное, с килограмм, и когда Колян отошел на несколько шагов, с силой бросил кирпич ему в голову. Это сатана, скорее всего, помог Коляну: кирпич пролетел в нескольких сантиметрах от его лохматой головы. А попади я, череп Коляна был бы, конечно, разбит...
Колян оглянулся и побежал.
— Ну и свиреп же ты, — сказал Колька.
На другой день, вечером, мы шли с Инкой на каток. На своем «сторожевом посту» стоял Колян. Я приготовился к худшему. Но он перешел переулок и подошел к нам.
— Привет! — вдруг сказал он. — А чувиха у тебя клевая.
И неожиданно протянул мне руку. И я тоже протянул ему свою. С тех пор не могу себе простить, что не поднял валявшуюся на дороге железную палку и, вместо рукопожатия, не перебил его руку пополам...
А что же «моя» Инка, которую я когда-то нетерпеливо ждал у планетария и из-за которой принимал «коляновы муки»? Время развело нас. Она окончила школу, поступила в университет, познакомилась там с каким-то «возрастным» /85/ парнем и вышла за него замуж. Фамилия его была Рябцев. Мама, наверное, была довольна.
Со школой на Сретенке у нашей дирекции была довольно прочная связь. Директриса школы Шах-Назарова была известна в педагогических кругах Москвы. Она, кажется, имела звание заслуженной учительницы РСФСР. Возможно, она представляла себя в роли начальницы чего-то подобного Смольному институту благородных девиц. Во всяком случае, своих подопечных держала в строгости. Когда у нее в школе устраивали вечер с приглашением нашего мужского класса, вводился особо жесткий режим. Расставленные повсюду учителя глядели в оба глаза. Чего уж они там наблюдали — не знаю. Моральное состояние школьников было в те времена высокое. Ни с кем мы не «обжимались», да и «обжиматься» было негде — разве только в подъездах…
Мы трое подружились с тремя десятиклассницами — Алей Данюшевской, Милочкой Подольской и Ниной Хамковой. Все они жили в районе Трубной улицы, комфортабельнее других — Аля Данюшевская. Ее дом — шестиэтажный, построенный, надо думать, в нэповские годы, — находился во дворе, имевшем входы с Трубной и с Цветного бульвара. На двери ее квартиры была табличка: «Инженер Юлий Данюшевский». В то время он был уже совсем старым человеком. Мать Али была намного моложе.
Квартира была отдельная, большая: целых четыре комнаты. Мы собирались вечерами у Али, в комнате, отгороженной от спальни родителей большим, тяжелым ковром. Приглушив звук, слушали вошедшие тогда в большую моду песни Вертинского и Петра Лещенко. Откуда они были у Али
— не знаю. Возможно, их привез Алин родственник — майор с Золотой звездой Героя Советского Союза. Он временно жил в одной из комнат, и когда мы уходили уже совсем поздно, в час-два /86/ ночи, то всегда видели его сидящим на кухне в задумчивом одиночестве и беспрерывно курящим. Звали его Вольф.
Девчонкам больше нравился печальный Вертинский, мы же предпочитали по большей части залихватского Лещенко, хотя и грусть Вертинского приходилась по душе.
Из трех девчат самой замечательной была Аля. Она не блистала красотой, но зато излучала ум, доброту и понимание всех и вся. Мы знали, что она тайно была влюблена в нашего Игоря, но, увы, безответно. С ней и ее подругами мы поддерживали дружбу всю жизнь...
Была среди наших друзей еще одна десятиклассница из
«пансиона Шах-Назаровой»: Таня Прунтова. Около нее вьюном вился лучший танцор класса Желнов. Но конкуренции с нашим красавцем Игорем Полозовым он не выдержал. А Татьяна была «воздушной блондинкой», сознававшей свою неотразимость и потому позволявшей себе некоторую женскую капризность. Ко всему прочему, она была генеральской дочкой. Ее отец — генерал-лейтенант И. Прунтов — был, как мы знали, начальником медико-санитарной службы авиации дальнего действия, которой командовал маршал авиации А. Голованов. Сейчас трудно себе представить, что жил этот высокопоставленный генерал со своей семьей (женой и дочерью) в коммунальной квартире в старинном доме на самом спуске Рождественского бульвара к Трубной площади. Приходя к Татьяне, мы выбирали у дверей квартиры нужный звонок, звонили и попадали в темный коридор, увешанный по стенам корытами, детскими ванночками, велосипедными колесами и рамами. Настоящая коммуналка. Здесь генерал жил не только в 45-м году, но и позднее.
Судьба его оказалась трагической, и трагедия эта фактически развернулась на наших глазах, во всяком случае, на глазах Игоря. Правда, случилась она уже в 47-м году, зимой. Вчетвером (с Татьяной) в один из зимних вечеров мы пошли на /87/ каток в Парк культуры. В толпе катающихся Игорь с Таней затерялись, не знаю уж, случайно или намеренно, чтобы оторваться от нас. Мы с Виталием накатались вдоволь и вернулись домой. А на следующее утро мы узнали...
Игорь с Татьяной тоже вернулись домой на Рождественский бульвар, мирно сидели и беседовали. К ним в комнату несколько раз заходил Танин отец, просил у Игоря закурить. И уже когда наш Игорь засобирался домой, обнаружилась страшная картина: генерала нашли повесившимся в ванной комнате. Что произошло, что толкнуло его на этот страшный поступок, так и осталось неизвестным.
Можно только предполагать. После войны, по выражению одного историка, Сталин-де учинил «охоту за генералами», включая и авиационных («дело авиаторов»). Что за этим стояло
— стремление убрать набравший за годы войны огромное влияние генералитет, какие-то реальные факты разгильдяйства и провалов в военной промышленности, состояние Сталина, который вышел из войны тяжело больным человеком? Или все вместе? Ни в одной из книг до сих пор нет ясного ответа. А может, причиной смерти генерала Прунтова было что-то другое?
Эта ужасная смерть еще больше сблизила Игоря Полозова и Татьяну. Вскоре они поженились. Это, конечно, отодвинуло его от нас, неженатых и вольных, но не настолько, чтобы все связи школьной дружбы оказались прерваны. Перезванивались, встречались.
В 2004 году я приехал в Москву из Канады. Пошли на Ваганьковское кладбище, где похоронен друг наш Виталий Свинцов. Зашли в бетонный, холодный колумбарий, петляли длинными мрачными коридорами. Было пустынно. Долго искали контору. В тесной комнате за столом сидела молодая девица. У ног ее лежала большая, лохматая собака, сонливая от старости. Девица лениво указала нам путь. /88/
Мы долго, молча сидели на скамье, вглядываясь в небольшую плиту с фотографией живого, молодого «Свинца». Он многого достиг. Был кандидатом философских и доктором филологических наук, профессором, заведовал кафедрой. Всегда был недоволен собой, говорил: «Кому нужна философия?». Но однажды сказал мне: «Нет, студенты ко мне на лекции ходят». Он писал стихи. И поэмы. О Сен-Симоне и Паганини...
— А давай зайдем и к моему тестю. Помнишь ту зиму 47-го?
— сказал Игорь.
Среди тесноты могильных плит и решеток мы с трудом добрались до заросшей густой высокой травой могилы со слегка покосившимся надгробием.
— Вот, — показал Игорь. — Здесь. Помню тот вечер, как будто это было вчера. Он с маршалом Головановым работал.
Я сказал:
— Я читал воспоминания о нем. Перед смертью он жене говорил: «Мать, какая страшная вещь жизнь!». Знаешь, в 44-м году шел я в школу. По мостовой голубь ходил, что-то клевал. Грузовик неожиданно дал задний ход и задел голубя. И я, веришь, поймал его пораженный взгляд. Человечий. В нем был ужас недоумения. Он не понимал: что произошло?! Вот он был живой, ходил... А через несколько секунд лежал уже мертвый. Страшная вещь...
Через год и Игорь нашел свое успокоение здесь, на Ваганьково.
Победа
В начале мая 1945 года пришла долгожданная Победа. В 42-м году я видел хроникальные кинокадры, в которых показывали выступление Сталина, по-моему, 6 ноября 41-го года, в честь /89/ очередной годовщины Октября. Выступал он тогда на станции метро «Маяковская», где впоследствии укрепили мемориальную доску (не знаю, есть ли она там сейчас). Немцы были тогда у ворот Москвы. Сталин стоял на трибуне и говорил тихим, глухим голосом с сильным грузинским акцентом. Говорил, мне казалось, быстро, скороговоркой, словно бы подчеркнуто невыразительно, обыденно.
— По всему видно, что гитлеровцы хотят вести войну на истребление.
Он сделал паузу, не спеша налил из графина в стакан воды, отпил и еще более глухо, неторопливо сказал:
— Они ее получат.
И сбылось, свершилось.
Ужасной ценой была добыта Победа, но тогда никто не подсчитывал, не считал. Понимали, что цена — страшная, но, может быть, думали: это неизбежно, не могло быть иначе, если не хотели сдаться. Считать, а не плакать стали много позже люди, которым та горькая доля, к их счастью, не досталась. В начале ельцинских реформ я как-то стал случайным свидетелем разговора молодого парня с ветераном войны, увешанном орденами и медалями.
— Навесил цацки, — говорил парень. — Ну, и что? Чем гордишься-то? Победители... Утопили немцев в собственной крови...
Ветеран не перебивал, потом сказал:
— Может, ты и прав. Да что делать-то было, милый? Кроме таких, как мы, других-то не было. Были бы такие, как ты, тогда, глядишь, и не пришлось бы топить немца в крови. Ну, да не дай бог вам такой войны, как та. Ты уж не серчай больно-то...
Разговор этот был на Старом Арбате. По обе стороны улицы сидели и стояли какие-то молодые ребята и девицы, продававшие что попало: матрешки в виде Горбачева и Ельцина, картины, советскую военную форму (даже генеральскую!) и советские ордена. Шатались туда-сюда люди. /90/
А на углу Арбата и Смоленской пожилая женщина в солдатской гимнастерке времен войны с медалями и планками ранений, сидя на раскладном стуле, играла на аккордеоне и пела:
«Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза. И поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза...».
Вокруг нее кружком стояли люди и бросали деньги.
А за полвека до того, 9 мая 45-го года, мы втроем — Виталий Свинцов, Игорь Полозов и я — в бесконечных потоках москвичей шли по улицам Москвы к Красной площади. Был вечер, но город светился тысячами огней. Народ ликовал! На Неглинной мы нагнали трех девушек, по виду тоже десятиклассниц. Настроение было радостное, и Игорь Полозов, наш неотразимый красавец, окликнул их:
— Девочки, давайте пойдем на Красную площадь вместе. Может, мы запомним друг друга навсегда: ведь такой день больше не повторится.
Но, видно, этим девочкам мамы приказали ни под каким видом не знакомиться с мальчишками на улице. Они взялись под руки и ускорили шаг.
— Жаль, — сказал Игорь им вслед. — Ведь мы хорошие, интеллигентные. Очень жаль. Хотите, мы вам стихотворение прочитаем?
Он стал читать Есенина, «поправляя» его.
Когда-то у той вон калитки
Нам было семнадцать лет.
Но девушки в белых накидках
Сказали неласково: «Нет!».
Девочки скрылись в толпе. Мы двинулись на Красную площадь и с большим трудом пробились туда. Никогда больше такой массы ликующих людей мне не пришлось здесь видеть. Но каждый год вспоминая об этом, вижу, будто бы /91/ сейчас, нас троих и тех трех девочек, с которыми мы так и не познакомились в тот исторический вечер…
У выхода на Манежную через проход Исторического музея большая группа девчонок, пританцовывая и притоптывая, не то пела, не то декламировала:
Девочки, конец войне,
Девочки, победа!
Девочки, весна идет —
Женихи к нам едут!
Ехали солдаты,
Ехали матросы.
Всех зовут Иванами,
Курили папиросы!
Мне вспомнилось «22 июня, ровно в 4 часа...», такая же простая и пронзительная песня. Только та была наполнена печалью и тревогой, а эта — брызжущей, бесконечной радостью. Солдаты возвращались с Победой! Всех звали Иванами. Всех! Но, увы, слишком многие не дождались женихов... Война повыбивала их сотнями тысяч. И множество молоденьких невест так и состарились в своем промозглом одиночестве. Война закончилась победой, но еще десятки лет волочила за собой бесчисленные, особенно женские, драмы и трагедии.
В день парада Победы на Красной площади — 24 июня 1945 года — было пасмурно, моросил дождь. Нам, выпускникам школы, предстояло через несколько дней сдать последний экзамен на аттестат зрелости. Его ввели впервые (раньше выдавали свидетельства об окончании школы), и сам Иван Иванович Винокуров, приходя в класс, неоднократно подчеркивал значимость нововведения. Особо отличившиеся в учебе и на экзаменах награждались к тому же (и тоже впервые) золотыми или серебряными медалями. Как теперь понятно, все /92/ это соответствовало политике укрепления государственности, которую еще до войны начал проводить Сталин и которая содержала в себе некоторые реставрационные элементы.
Парад на белом коне принимал Жуков, командовал парадом на вороном коне Рокоссовский. Теперь рядом со зданием Исторического музея при входе на Красную площадь стоит памятник Жукову, выполненный в классическом стиле: маршал восседает на боевом коне, закусившим удила и готовом загарцевать. А мне довелось видеть немного другого Жукова. Было это уже в 60-х годах, когда я работал в издательстве «Наука». Директор нашего издательства А.М. Самсонов (впоследствии академик), военный историк, задумал выпуск мемуаров военачальников Отечественной войны. Возникла идея и публикации воспоминаний Жукова. Он приехал в издательство в Подсосенский переулок, и принимали его в красивом директорском кабинете (издательство помещалось в старинном особняке Морозова). Жуков был в штатском. Небольшого роста, коренастый, крепкий, с уже поседевшими редкими волосами. Поражал его подбородок: огромный, массивный, как утверждают, признак большой воли. Но еще больше поражала какая-то скромность Жукова, его, как показалось, даже некая неуверенность, чуть ли не стеснительность. Неужели партийные передряги, пережитые после войны, в позднесталинские, а потом хрущевские времена, могли так повлиять на человека, командовавшего миллионами? Или прав И. Бродский, написавший в стихотворении «На смерть Жукова»:
Спи! У истории русской страницы
хватит для тех, кто в пехотном строю
смело входили в чужие столицы,
но возвращались в страхе в свою... /93/
Наш выпускной вечер состоялся спустя несколько дней после парада Победы. Все было торжественно. В конференц-зале нас по одному вызывали на сцену, и Иван Иванович Винокуров вручал нам красивые, голубоватые аттестаты зрелости. Медали никто из нас не получил.
Говорили речи, напутствия. Потом были танцы! Пригласили выпускниц женской школы на Сретенке. Кто-то из ребят тайком притащил водку, и мы хлебнули ее в пустом темном классе. Расходились уже поздней ночью. Мы втроем пошли провожать «Полозовскую» Татьяну. Со Сретенки свернули на Рождественский бульвар. Попрощавшись с ней, сняли специально надетые на выпускной вечер галстуки, расстегнули вороты рубашек. Дул легкий теплый ветерок...
Через несколько дней мы собрали все свои учебники, нам уже ненужные.
— Что будем делать с этим? — спросил Свинец.
Подумали. Игорю Полозову пришла счастливая мысль:
— Загоним! Толкнем на Центральном рынке и обмоем аттестаты. Как?
Понравилось. Нагрузившись книгами, двинулись на Цветной бульвар. Рынок там был шумный, не только продуктовый: барахолка. Горячие и возбужденные, мы врезались в толпу торговцев. Подняв над головой учебник английского языка и размахивая им, как флагом, Полозов выкрикивал:
— Изучайте язык союзников! Изучайте! С ними еще придется поговорить! Изучайте язык союзников!
Вокруг нас крутились люди, кто-то книги у нас покупал, кто-то смеялся. Хохотали и мы...
Тогда по всей Москве стояло много наскоро сбитых заведений, где можно было, забежав, выпить «150 с прицепом»: 150 граммов водки и кружку пива. Заведения назывались «деревяшками». В одной из них мы и выпили по 150 с прицепом. /94/
Товарищ командующий
Мы поступили в разные институты. Павел Иванович Березов, намучившись, наверное, со своей писательской гуманитарной профессией, твердо сказал сыну: «После войны — разруха. Надо и будут много строить. Вот настоящая стезя для молодого человека!»
И Игорь поступил в Строительный институт им. Моссовета. Был тогда такой. Виталий Свинцов поступил в очень престижный в те годы Московский авиационный институт (МАИ), а я (как очень того хотели мои родители) пробился в 1-й Медицинский институт, находившийся на Моховой, во дворе, рядом с университетом.
Полозов сразу нашел себя. Он окончил свой институт. Стал инженером-строителем, лауреатом Государственной премии. Мы же со Свинцом, ни с кем не посоветовавшись, после первого учебного семестра ушли из своих институтов и решили: будем поступать на философский факультет МГУ. В этом поступке было, конечно, очень много мальчишества, но присутствовала, тем не менее, и свойственная нам обоим тяга к гуманитарным наукам. Мы понимали, что экзамены предстоят трудные, и готовились со всей ответственностью. Но главное — было решено: если один выдерживает экзамен, а другой — нет, не поступаем оба. Мы взвесили многое, но не учли, пожалуй, самого главного. В 1946 году началась демобилизация из армии военнослужащих, имевших среднее образование. При поступлении в ВУЗы они получали очень важную, решающую льготу: их принимали вне конкурса. Если добавить к ним выпускников школ, получивших золотые или серебряные медали, которые освобождали их обладателей от экзаменов, то станет ясно, какими поистине чудовищными становились конкурсы на незначительное число /95/ мест для нас, простых смертных. Особенно это относилось именно к гуманитарным факультетам, ставшим после войны особенно престижными. Точно не помню число претендентов на каждое место на философском факультете в МГУ, но, думается, не меньше двадцати.
Поступавшие фронтовики, это было заметно, чувствовали себя независимо и уверенно. Они держались своими «кучками»: все были в военной форме, только уже без погон. Между прочим, был среди них ставший впоследствии широко известным Александр Зиновьев. Он тоже ходил в шинели с голубыми («летными») петлицами и фуражке с таким же околышем. Небольшой, ладненький, с вьющимися волосами, напоминал молодого Сергея Есенина. Еще очень далеко было до его диссидентских «Зияющих вы сот», этой сатиры на советский строй, до эмиграции, последовавшего затем разочарования в Западе, до множества книг, разоблачающих «западничество» как силу, которая, разрушив советский социализм, нанесла непоправимый удар по самой России. «Целились диссиденты в коммунизм, а попали в Россию». А может те, кто держал их под локоть, и целились-то в Россию?
Мы сдавали пять экзаменов, и максимальное количество баллов, которое можно было набрать, равнялось двадцати пяти. Такого результата не добился никто. Проходным баллом могло стать двадцать четыре. Мы оба набрали по двадцать три и «выпали в осадок». Вышли из правого крыла университетского здания на Моховой, где находился тогда философский факультет, сели на низкий бетонный парапет чугунной решетки. Мимо нас туда и сюда двигались людские ноги в сапогах, ботинках, туфлях. Шли своим чередом по своим делам…
Ясно было, что с положением, в которое мы попали, нам самим не справиться. Вмешался отец Виталия, Иван Иванович. /96/ Он был генерал-майор, а генералы в первые послевоенные годы пребывали в большом почете. Одна звезда на золотых генеральских погонах значила, конечно, немало, но целых три... Некоторые старые друзья Ивана Ивановича, с которыми он когда-то начинал военную службу, в годы войны сделали большую карьеру. Одним из них был Филипп Федосьевич Жмаченко. После войны, приезжая в Москву, он обязательно навещал «друга Ивана». Массивный, тяжелый, в парадном мундире цвета морской волны с разными расшитыми золотом галунами, увешанном целым иконостасом орденов и медалей, генерал-полковник Жмаченко производил неотразимое впечатление.
В очередной раз он заехал к «другу Ивану» на Сокол как раз в момент нашего университетского провала. Ему рассказали о случившемся. Молодая, пышная блондинка, «гарная жинка» — жена Жмаченко, — попросила его:
— Филипп, ты бы помог хлопцам!
— А чего ж нет, — сказал он, — подскажи, Иван, что делать надо, с кем поговорить?
И вот в один прекрасный день мы вдвоем стоим во дворе у машины Жмаченко, ждем генерала, чтобы ехать с ним в ректорат МГУ. Он вышел, сел на переднее сиденье возле шофера, тоже военного. Наше самолюбие тешила речь водителя:
— Куда едем, товарищ командующий? Ясно. Ребят тоже берем, товарищ командующий? Есть! Пусть показывают дорогу!
Поехали. Водитель плохо знал московские улицы, допускал нарушения. Милицейские свистки несколько раз останавливали нас. Жмаченко выглядывал из-за стекла и весело кричал милиционерам:
— Ну что, братцы? Какие претензии? /97/
Жмаченковские звезды производили ошеломляющее впечатление. «Братцы» брали под козырек.
В просторной приемной ректора МГУ профессора И.С. Галкина все стулья, расставленные вдоль стен, были заняты. Посетители, скорее всего, явились сюда, как и мы, по делам приема. Когда в парадном, сверкающем мундире вошел Жмаченко, все взоры обернулись на него. А за его спиной «небрежно» шествовали мы в летних рубашечках с закатанными рукавами. Жмаченко подошел к секретарше, которая поднялась.
— Товарищ ректор у себя?
— К сожалению, нет. Его вызвали на совещание в министерство.
— Когда прибудет?
— Часа через два.
Жмаченко слегка отодвинул рукав мундира, взглянул на часы:
— Сейчас 12.15. Значит, будет в 14.15...
Секретарша и посетители не могли сдержать улыбок.
— Нет, — сказал Жмаченко, — к 14.15 вернуться не смогу. Еду в Кремль на Верховный Совет. У вас листок бумаги найдется?
Листок нашелся. Жмаченко присел возле стола, и я краем глаза видел, как он крупными, аккуратными буквами стал писать: «В приемочную комиссию Московского университета. Прошу принять для прохождения учебы на философическом факультете: 1) Свинцова Виталия Ивановича, 2)...», — он повернулся ко мне:
— Тебя как точно? Два эф?..
И написал: «...2) Иоффе Генриха Зиновьевича». Чуть ниже поставил подпись: «Депутат Верховного Совета, Герой Советского Союза, генерал-полковник Ф. Жмаченко». /98/
— Вот, передайте товарищу ректору, — сказал он секретарше.
— Жаль, не могу его повидать. Верховный Совет...
Мы вышли в университетский двор.
— Вам куда, ребята? — спросил Жмаченко. — Могу подбросить.
Мы ответили, что погуляем.
— Верно, — заметил он, — побродите по Москве, погода отличная. Скоро вам за учебу, гулять некогда будет. А нам — в Кремль.
— Так точно, товарищ командующий, — рапортовал водитель.
Не знаю, что было бы, если бы генерал Жмаченко встретился с ректором Галкиным в «14.15», когда он, Галкин, обещал «прибыть». Может, нас приняли бы на «философический факультет» двоих. Генеральская же записка сработала наполовину. Согласились принять одного, того, кто стоял в жмаченковском списке под номером один.
— Я один поступать не буду, как договорились, — твердо сказал Свинец.
— Будем хлопотать и за дружка твоего, но поступать надо, хватит ребячества, — еще тверже сказал старший Свинцов. Он, конечно, был абсолютно прав.
* * *
С той поры мы с Виталием не расставались никогда. Когда уезжали, писали письма. Вот они — целые пачки. Не хватает духу их разобрать. Но я знаю, что в них немало глубоких размышлений. Его интересовала прежде всего человеческая личность, ее внутренний мир, душа.
Однажды Виталий рассказал: /99/
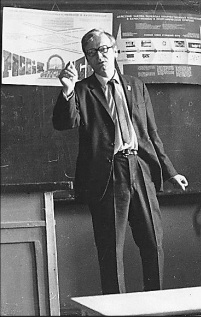
Была у меня нянька Даша, из деревни отца. Она мне объясняла:
«Вот видишь, детка, толькотолько человек народился — сейчас Бог к нему ангелов посылает. А и сатана не дремлет — бесов своих шлет. Кто, значит, первый душу захватит. А душа наша, детка, на двоих сделана, на два то есть места. Хошь ангелов туда суй, хошь бесов. Боле двоих не вмещает. Вот и выходит: кому два ангела досталось — энтот добрый, святая душа. Кому два беса
— энтот злодей лютый. Ну, а кому по ангелу и бесу — энтих в миру самое многое, грешных. У них ангел на свое тянет, а бес — на свое».
— Ну, как тебе философия Дашина? — спросил он.
— Сильно! А ты что же, к вере потянулся?
— Я — как у Ионеско: «Мне кажется, я верую, не слишком веря, что верую». Люди ищут дорогу к Храму, а вот нянька моя неграмотная знала: доброта души человеческой и есть истинный Храм. Другие Храмы, я думаю, факультативны...
Профессор Разгон — историк
У моего отца — простого рабочего, часовых дел мастера — был земляк, которым он очень гордился: профессор истории, лауреат Сталинской премии И.М. Разгон. Отец вообще испытывал глубокое почтение к людям образованным, а профессора казались ему просто небожителями. О Разгоне он рассказывал:
«В Горках (городок в Белоруссии — Г. И.) семейство Разгонов хорошо /100/ знали. Старик музыкант был. Азохенвей... Клезмер. Знаешь, что такое клезмер? На свадьбах играли. Бедняк... Но после революции младшие Разгоны пошли в гору. Все способные. Учились, комсомол, партия... Очень многого добились...».
Отец считал чуть ли не за честь, если профессор Разгон обращался к нему с просьбой починить часы. Чинил и сам привозил ему домой, в «сталинский» дом на улице Горького. Разгон подарил ему третий том «Истории гражданской войны», в написании которой принимал участие, и сделал надпись на титульном листе: «Моему дорогому земляку...». Отец хранил эту книгу в красном переплете и всегда показывал ее гостям. В тот год, когда генерал Жмаченко хлопотал о приеме нас на «философический факультет», профессор Разгон читал лекции по истории Октябрьской революции и гражданской войны на историческом факультете МГУ. После исключения меня из жмаченковского списка дорога вела к профессору Разгону.
Он оказался приземистым, очень широким, плечистым человеком с большой головой, украшенной пышной гривой волос. Говорил громко, весело, и так же громко хохотал.
— Что? — зарокотал он, когда мы с отцом явились к нему. — Какой еще философский факультет?! Тоже мне профессия — философия! С ума сойти! Только история!
Он назначил мне день, когда я должен был явиться к нему на истфак на улице Герцена, угол Моховой. Мы пошли вдвоем с Виталием. Разгон велел мне посидеть у входа в кабинет декана исторического факультета, профессора M.H. Тихомирова, а сам направился к нему.
— Старик, — тихо шептал мне Виталий, — отвечаю: тебя возьмут. Видал у Разгона лауреатскую медаль? Ему не откажут.
Примерно минут через пятнадцать-двадцать меня позвали в кабинет. Тихомиров сидел за столом в накинутом /101/ на плечи пальто: в комнате было холодновато. У него было лицо монголоидного типа. Щеточка усов, старомодные очки в круглой оправе...
Он поднял голову и сказал:
— Вот при профессоре Разгоне говорю: сдашь экстерном все экзамены за первый курс на пятерки, переведу тебя в будущем году на второй курс стационара. Старайся! Все.
Я честно старался. Один лишь профессор А. Арциховский поставил мне по «основам археологии» четверку и никак не соглашался на переэкзаменовку. Все остальное я сдал, как велел Тихомиров. Но, конечно, не Арциховский стал причиной моей новой университетской неудачи. И не в том было дело, что Тихомиров нарушил свое слово. Шел 47-й год. Чувствовалось, как усиливается идеологическое давление в стране. Уже позади был разгром ленинградских журналов, печатавших «антипатриотических пошляков» Зощенко и Ахматову, начинался «перебор людишек» в институтах, издательствах, редакциях в соответствии со знаменитым «пятым пунктом». Скоро будет убит С. Михоэлс, арестован Еврейский антифашистский комитет и вовсю развернется пресловутая кампания «борьбы с космополитизмом». И сам Разгон будет объявлен «космополитом» и отправлен заведующим кафедрой в Томск.
В начале 80-х мы, группа московских историков, приехали в Томск на конференцию. Разгон жил в огромной квартире барином. Сибиряки почитали его как своего главу. Он устроил банкет. Разомлев, он предложил петь комсомольские песни его юности, мы было подтянули, но как-то вразнобой. Новые песни уже придумала жизнь.
Впоследствии о «космополитизме», «Деле врачей» и т.п. будут написаны тома, но вразумительного объяснения происходившей тогда политической фантасмагории, пожалуй, нет до сих пор. Имели ли в виду явно погружавшийся в маразм Сталин и окружавшие его алчные парткарьеристы войну с /102/ Америкой и потому смотревшие на «еврейский национализм» как на некую «пятую колонну», — доказать трудно. Но так или иначе, ветер большой политики уже погнал человеческие пылинки по путям-дорогам жизни.
В университет меня не приняли. Приняли на ранг ниже — на исторический факультет Пединститута им. Ленина.
Литинститут
Годы 47-й и 48-й стали для нас поэтическими годами. Это потом, в 60-х, поэзия пришла на площадь Маяковского, где возле памятника поэту зазвучали стихи молодых — Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Р. Рождественского и многих-многих других. В их стихах была и лирика, и первые звуки политической оппозиционности. А тогда, сразу после войны, домом поэзии стал Литературный институт на Тверском бульваре, в старинном доме отца Герцена. По вечерам там собирался народ, и поэты читали свои стихи. Мы со Свинцом повадились ходить туда.
Помню маленького, щуплого Павла Антокольского; по-еврейски длинноносого, с грустным выражением лица Михаила Светлова; мрачноватого, небрежно одетого, по-моему, нередко пребывавшего в подпитии Ярослава Смелякова. Но они там преподавали, а для нас тон задавали студенты-фронтовики: Семен Гудзенко, Юлия Друнина, Марк Максимов, Сергей Орлов, Яков Козловский, Александр Межиров, другие. Пережив войну, они так и не могли расстаться с ней. Она вошла в их умы и сердца и, мне кажется, ни о чем другом они не могли писать с той силой, с какой писали о войне.
Затаив дыхание, мы слушали Гудзенко:
Когда на смерть идут, — поют,
а перед этим можно плакать.
Ведь самый страшный час в бою —
час ожидания атаки... /103/
И нам казалось, что вот сейчас раздастся ротный свисток, и, тяжело перевалившись через бруствер окопа, мы сами пойдем в атаку.
А с обожженным лицом, горевший в танке Сергей Орлов? И теперь часто цитируют великие строчки, написанные им:
Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат...
А мы цепенели и от другого его стихотворения:
Броня от солнца горяча,
И пыль похода на одежде.
Стянуть комбинезон с плеча,
И в тень, в траву. Но только прежде
Мотор глуши и люк открой —
Пускай машина остывает.
Мы всё перенесли с тобой:
Мы — люди, а она — стальная.
В созвездии фронтовых поэтов обращал на себя внимание вихрастый, напористый паренек с перебитой рукой: Виктор Урин. Среди слушателей он пользовался большой популярностью. Стихи свои читал вдохновенно. У меня долго хранились тоненькие брошюрки его стихов. Потом следы Урина для нас затерялись. И вдруг, спустя полвека, живя уже в Канаде, натыкаюсь на стихи Виктора Урина в нью-йоркском «Новом журнале». Но это совсем, совсем другие стихи, нечто подсознательное или надсознательное. Ничто не напоминает того юного Урина, которого мы когда-то знали.
Я тут же написал ему: думал, что и он хоть на мгновение вернется в далекую послевоенную молодость. Он отозвался, но в том же духе своих поздних странных сочинений. А было: /104/
Но мы идем, мы вперед идем,
И если ты устанешь — солги!
Под качающимся дождем
Хрипят и хлюпают сапоги.
У нас желанье одно — привал,
У нас желанье одно — уснуть.
На плече товарища я дремал,
А товарищ клевал подбородком грудь.
В конце 2004 года я прочитал о смерти Виктора Урина в Нью-Йорке. В некрологе не без некоторого сожаления (так мне показалось) упомянули и о старом «советском патриотизме» Урина. И я вспомнил... Вот он стоит на сцене зала Литинститута и читает стихи, которые нам не забыть.
Не знаю, где упасть придется,
На Украине — у колодца,
Или в Литве — у стога сена,
Земля повсюду драгоценна.
Пусть мчится наше поколенье
Через тревоги и усталость,
Через смертельные раненья —
Лишь только б Родина осталась...
Можно сказать о нас словами стихов Юрия Левитанского: да, мы не участвовали в войне, но она участвовала в нас. И будет участвовать до последнего нашего вздоха.
И отблеск Вечного огня
дрожит на скулах у меня.
(Уже меня не исключить
из этих лет, из той войны.
Уже меня не излечить
от тех снегов, от той зимы. /105/
И с той землей, и с той зимой
Уже меня не разлучить,
до тех снегов, где вам уже
моих следов не различить.)
Полет футбольного мяча
О Патриарших прудах я буду рассказывать дальше. А сейчас только скажу, что через много-много лет после окончания школы познакомился я там с полковником, который просил называть его просто Костя. И Костя рассказал мне, что живет он в одном доме с генералом Петуховым, который часто вспоминает школу, в которой когда-то учился. Выяснили, что номер этой школы 254. Я спросил не Геннадием ли зовут генерала.
— Точно, Геннадий Иванович.
— Так это ж Генка Петух из нашего десятого класса, — чуть ли не закричал я. — Передайте ему привет. И я назвал себя.
На другой же день Костя подошел ко мне:
— Конечно, конечно, вспомнил он вас! Здорово, сказал, вы в футбол играли!
Я был несказанно рад этой похвале. Как теперь выражаются, футбол был одной из главных составляющих нашей юной жизни. Да разве только одной нашей? Всей Москвы!
Довоенного большого футбола наше поколение не знало. Мальчишки пробавлялись слухами, верили легендам. О том, например, что на правой или левой ноге какого-либо великого игрока 20-х — 30-х годов была наколота татуировка: «Бить запрещено — удар смертелен». Если наличие таких потрясающих наколок все-таки могли вызывать сомнения, то свято верящих в то, что некоторые футболисты ударом мяча могли /106/ ломать штанги ворот, было множество.
Зачитывалиcь книжкой забытого ныне писателя, большого любителя футбола Льва Кассиля «Вратарь республики», герой которой, вратарь Антон Кандидов, вообще не пропускал ни одного мяча, в том числе и в матчах с зарубежными игроками. В фильме, поставленном по книжке Кассиля, они выбегали на поле в головных повязках, на которых были укреплены... рога! Да и выглядели эти игроки как разъяренные быки. Такими ужасными старались представить тогда «буржуазных» футболистов-профессионалов.
Стадионом наших Мещанских улиц был тогда «Буревестник» (раньше называвшийся «Профинтерн»), находившийся в несуществующем теперь Самарском переулке. Впрочем, стадионом, по меркам наших дней, назвать его невозможно: никаких трибун там не существовало. Вдоль вытоптанного футбольного поля (зимой его покрывали льдом) — два ряда длинных деревянных скамеек. Бревенчатый одноэтажный домишко, похожий на сарай, заменял раздевалку для игроков.
По выходным дням на «Буревестнике» играли с утра до вечера. Сначала выходили команды мальчиков. Потом — юноши, а уж за ними — взрослые. Их называли «мастерами». Зрители, конечно, ждали их выхода. Какие они уж там были «мастера» — это большой вопрос, но и среди них попадались классные футболисты. Однако истинные мастера Большого футбола играли на центральном стадионе «Динамо», в Петровском парке.
Летом 1937 года футбольная Москва услышала и увидела дотоле неведомых басков. (Впоследствии писатель А. Нилин написал о них книгу «Баски, 1937 г.».) В Москву приехала знаменитая команда испанской Басконии (тогда шла гражданская война между республиканской Испанией и диктатором генералом Франко). Играли баски блестяще. Даже их имена завораживали — Лангара, Ирарагорре, Бласко, Регейро, Силларуэн… /107/ Наши лучшие команды, одна за другой, терпели поражения. Выиграл только, кажется, последнюю игру «Спартак», в футболках которого сражались и некоторые игроки сборной СССР. Среди них выделялся рабочий паренек из подмосковного Глухова Григорий Федотов (он играл за «Металлург»). Внешне он не очень был похож на спортсмена. Грузноватый, пожалуй, даже массивный, с грубоватым лицом трудяги на тяжелых работах, этот парень обладал поразительным набором финтов, пружинистым дриблингом, удивительной способностью видеть партнеров на поле и неожиданностью передач мяча. Отличился он и играя против басков за «Спартак». В газетах о нем писали: «Вот он пересек поле, “качнул” защитника, и каким-то падающим движением послал мяч в 30-метровый полет. Через несколько секунд этот полет закончился трепыханием мяча в верхнем углу баскских ворот». Пройдет немного времени, и Федотов станет одной из знаменитостей нашего футбола...
До войны в советском футболе господствовал московский
«Спартак», за который в разные годы играла знаменитая четверка братьев, сыновей, по слухам, чуть ли не одного из царских егерей, жившего на Пресне. Это были Старостины: Николай, Петр, Александр и Андрей. Летом 1942 г. знаменитых братьев посадили. Ходили три версии: по одной, их арестовали якобы за какие-то коммерческо-гешефтские дела в «Промкооперации» (которую представлял «Спартак» и которой братья руководили). Вторая версия приписывала им чуть ли не антисоветскую агитацию! А по третьей: покровитель главного соперника «Спартака» — команды «Динамо» —всесильный Л. Берия сам бросил Старостиных в лагерь, чтобы свести «Спартак» до положения заурядного футбольного клуба. Что тут было верно, а что вымысел — сие так до конца и неведомо.
Так или иначе, но после войны «Спартак» стал уже не тот. Теперь борьба развернулась между московскими командами /108/
«Динамо» и ЦДКА. К этому времени мы выросли. Почти весь наш двор страсто болел за ЦДКА.
Наш Орловский переулок находился рядом с огромным парком, центром которого был ЦДКА — Центральный Дом Красной Армии. До революции здесь находился Екатерининский институт благородных девиц. Легко можно себе представить красоту парка тех времен. Длинные тенистые аллеи, вековые деревья, пруд, по которому плавали прогулочные лодки. Впоследствии вид старинного парка подпортили: построили здание ресторана, оборудовали биллиардную и открытую танцплощадку. В парке стали крутиться жившие неподалеку хулиганистые группки айсоров — монополистов московских стеклянных будок, в которых прохожим чистили ботинки, продавали банки с гуталином и шнурки.
Зимой два поля парка превращали в каток. В те годы зимой футболисты переключались на хоккей. Он назывался русским
— большое футбольное поле, отсутствие бортов, клюшки с загнутыми крючками и др. И мы с детства являлись завсегдатаями этого катка. Вертелись там днями и вечерами, выделывая на льду головоломные фортели.
Некоторые игроки команды ЦДКА были выходцами из нашего микрорайона, и мы их знали (например, А. Виноградова по непонятному прозвищу Барель, А. Гринина и др.). Во второй половине 40-х годов ЦДКА была уже ультраклассной командой, как ее называли, «командой лейтенантов».
В ЦДКА все были мастера, но супермастером был новый форвард Всеволод Бобров, который только одним своим внешним видом воплощал классический тип футболиста (он с блеском играл и в хоккей). Если о Федотове мы — мальчишки — узнали по газетным отчетам об играх с басками, то Боброва я и мои «однодворцы» впервые увидели на ледяном поле нашего старого «Буревестника». Это было еще военной зимой 1944 года. /109/

Мы стояли у выхода из бревенчатой раздевалки. Один за другим, стуча коньками по деревянному настилу, из нее на лед выкатывались хоккеисты. Они были одеты в длинные байковые брюки с манжетами у щиколоток, свитеры и вязаные шапочки. Вот на льду уже появился внешне смахивающий на цыгана А. Виноградов (Барель), за ним — стройный русоволосый парень. Cтоявший рядом приятель спросил меня:
— Ты о нем что-либо слышал?
— Нет, ничего. А кто он?
— Бобров Всеволод, Севка. Он в хоккей как бог играет. А в футбол еще лучше!
Бобров родился в г. Моршанске Тамбовсой области, но вскоре семья переехала под Ленинград, в г. Сестрорецк. Как и Федотов, Бобров был из трудовой среды. Е. Евтушенко, воспевший Боброва в стихах, отметил в нем крестьянские черты:
Вихрастый, с носом чуть картошкой,
Ему в деревне бы с гармошкой,
А он в футбол, а он — в хоккей...
А откуда же им — таким парням, как Федотов или Бобров
— тогда браться? Миллионеров среди спортсменов в те времена и в помине не было...
Когда Боброва приняли в ЦДКА, ему не было и двадцати трех лет. Цедековская линия нападения включала в то время таких грозных нападающих, как А. Гринин, В. Николаев, Г. /110/ Федотов, П. Щербатенко и В. Демин. Но Бобров обладал уникальным качеством, которое, собственно, и «делало» игру, приносило победный результат. Он был игроком неудержимого прорыва к воротам противника и точного завершающего удара по воротам. Евтушенко отметил эту бобровскую неповторимость:
Кто мастер дриблинга, кто финта,
А он вонзался, словно финка,
Насквозь защиту пропоров,
И он останется счастливо
Разбойным гением прорыва...
Не случайно всю вторую половину 40-х годов, да и несколько лет позднее команда ЦДКА прочно лидировала в нашем футболе. Я помню один из номеров журнала «Огонек» того времени. На его красочной обложке фото — две спортивные фигуры. На заднем фоне — мощный Федотов, на бегу только что передавший мяч. На переднем — Бобров, уже принявший федотовский пас. Руки его «разбросаны» для равновесия, нога занесена для удара. И надпись: «Только что Федотов передал мяч Боброву. Сейчас последует мощный и точный удар по воротам!»
Сколько лет минуло, а эта фотограф ия так и осталась в памяти неколебимой скульптурой...
Я много лет смотрел и сейчас нередко смотрю футбол. Видел «звездных» футболистов из разных стран. Думаю, наш «старый футбол» занял бы среди них хорошее место. Легко, свободно играли, как написал Е. Евтушенко, «в безномерных футболках вольных...».
Не придавалось тогда значения рекламе. И звездной болезнью не болели футболисты и хоккеисты. Играли без позы и циркачества. После забитого гола не бросались целоваться и обниматься, не совершали на поле кульбиты, не стаскивали с себя рубашек на глазах многотысячных зрителей. Простые /111/ парни, они играли не за бешеные деньги. Другой был футбол. Теперь его уже нет — он в офсайде…
В дни матчей Москва валила на центральный стадион
«Динамо». Трамваи были обвешаны целыми гроздьями людей. Метро забито до отказа. У входов — шпалеры пеших и конных милицейских.
На Восточной трибуне, где, как считалось, собирались настоящие болельщики, вспоминали о давних играх с Уругваем, с турками. Говорили, конечно, о матчах с грозными басками, приезжавшими в Москву в 1937 году. А тут вдруг речь зашла о том, что наши поедут за границу — и куда?! В Англию — страну, признанную по классу футбола номером один. «Припухнут!» — говорили скептики и пессимисты. «Это как сказать!» — отвечали оптимисты. Стали судить и рядить состав. Кого только не перебрали! Потом выяснилось: поедет «Динамо», но усиленное в нападении Бобровым и ленинградцем Е. Архангельским. Команду повез Михаил Якушин («Михей»).
Это теперь за своими любимцами «новые русские» болельщики летят самолетами, а тогда... Москва изготовилась слушать радиорепортажи, которые должны были, кажется, передаваться чуть ли не с того света. С динамовцами полетел единственный тогда спортивный комментатор Вадим Синявский, обладатель хрипловатого тенора, благодаря которому он умел достичь эффекта физического присутствия зрителей на стадионе. Много потом было футбольных радиои телекомментаторов, но такого поразительного в своем искусстве, как Вадим Синявский, убежден, не было никогда. Король он был, настоящий король в своем деле...
Чтобы не ударить в грязь лицом перед гордыми бриттами, наше руководство постаралось: всех футболистов одели в синие костюмы и... шляпы! Считали, наверное, что таким шиком произведут надлежащее впечатление на англичан. Хотели как лучше... Но если мы, плохо зная англичан, делали /112/ (как понимали) все, чтобы подчеркнуть свое к ним уважение, они, со своей стороны, не все и не всегда поступали так. Одна наша газета перепечатала английскую заметку: «Сегодня русские будут свободны от игры. Они станут пить водку, заедать ее черной икрой и под однообразные, надоедливые звуки балалайки плясать на корточках». Впрочем, это писалось до первой встречи на футбольном поле. Первый матч состоялся 13 ноября с «Челси». Если бы тогда кому-нибудь из нас, болельщиков, сказали, что через шестьдесят лет эта команда станет собственностью российского миллиардера Р. Абрамовича, мы бы решили, что все это кому-то приснилось в страшном сне или человек впал в тяжкий бред...
У нас тогда писали, что в «Челси» сделали ставку на непревзойденного Т. Лаутона, такого же всемогущего на футбольном поле, как адмирал Нельсон на морских просторах. «Челси» выигрывал 3:2, но Бобров все же забил свой гол, сравняв счет. Эта ничья была воспринята нами в Москве как победа. Теперь англичане уже не выглядели футбольными суперменами. Не таким страшным оказался и сам Лаутон. Динамовский «раздатчик» мячей К. Бесков точными пасами выводил на удар то Карцева, то Боброва, и они сделали свое дело. Вратарь Хомич вызывал восторг англичан, тигриными прыжками «доставая» мячи из самых дальних углов наших ворот.
А потом был туман. Густой лондонский туман лег на стадион, окутал поле. Но игру со знаменитым «Арсена лом», возглавляемым футбольным корифеем тех лет Стэнли Метьюзом (он потом стал членом Палаты лордов), не отменили. Мы долго настраивали приемник в квартире нового большого дома на Соколе, где жил Виталий Свинцов. Он был страстный болельщик за ЦДКА и поэт. Вот маленький отрывок из его стихов: /113/
Удар у Гринина прост и прям.
Очень удар суров.
И по самым дальним углам
Бьет обычно Бобров!
...Наконец сквозь треск и хрипы приемника мы поймали прерывающийся голос Синявского. «Плохо вижу, — говорил он. — Туман даже скрывает фигуры футболистов. Вот сейчас спущусь к кромке поля, чтобы получше разглядеть и даже, если удастся, расспросить наших игроков».
Возможно, Синявский и преувеличивал густоту тумана, но нам у приемников он казался черным, зловещим. И там, в этом мрачном висящем тумане, сражаются наши ребята, бьются за победу. Неверующие, мы молились: бог футбола, подсоби им! Вот опять через треск и шумы хрипотца Синявского: «Сейчас наш капитан Семичастный успел на бегу крикнуть мне, что счет три-три. Опять три-три, как с “Челси”». Потом на момент все стихло, только какой-то гул, отдаленный и непонятный. И разрывая его, ликующий выкрик Синявского:
«Четыре! Четыре-три! Мы забили! Это золотая нога Боброва направляет мяч в английские ворота!»
Потом был матч, по-видимому, с непрофессиональной командой «Кардифф-Сити», который мы играючи выиграли со счетом 10:1. И под занавес сыграли с сильной «Глазго Рейнджерс» вничью: 2:2.
Встречали ребят дома с почестями, но довольно скромными. Все тогда было скромное: и люди, и проявление чувств, и даже торжества. Футбол есть футбол, не более, чем игра... Теперь смотрю футбол по ТВ. Вот выходят на поле огромных стадионов черные и белые звезды — сколько длинноволосых красавцев! Кумиры миллионов, да и сами миллионеры. Все умеют, все могут. А я смотрю на сохранившуюся у меня старую /114/ фотографию конца 40-х годов. Вот они, наши футболисты, стоят плечом к плечу перед матчем. Видно, в тот день было холодновато, дул ветер, потому что многие чуть ссутулились, обхватили себя руками. Простые рабочие ребята. Прически — больше «бокс» или «полубокс». А вот среди них и Бобров, совсем еще молодой, через некоторое время уже воспетый Е. Евтушенко:
Шаляпин русского футбола,
Гагарин шайбы на Руси...
Они обыгрывали дедов нынешних футбольных корифеев. А самих этих корифеев обыграли бы? На Восточной трибуне «Динамо» настоящие болельщики, наверное, сказали бы: «Сыграли бы: мяч-то — он круглый».
О стадионе в подмосковном селе Лужники до войны, да и после нее вообще не было слышно. Его начали строить в середине 50-х годов, и молодежь со всех предприятий посылали туда на субботники. Я и теперь, более чем полвека спустя, вижу огромный строительный котлован возводимого в Лужниках стадиона. Открыли его в 1956 году, а до того московский народ валом валил на тогдашний центральный стадион Москвы, в Петровском парке, — «Динамо». Существовал и другой стадион — «Сталинец», но он был значительно меньше «Динамо», а главное — находился далеко от центра. На «Сталинец» надо было сперва ехать на метро до Сокольников, потом на трамвае до Преображенки, а от нее еще изрядно топать пешком. Стадион этот располагался в красивой роще, был уютным, но являлся как бы дублером «Динамо», который казался очень большим, нарядным, праздничным.
Овал динамовских трибун составляли четыре трибуны: Северная, Южная, Западная и Восточная. Северная трибуна у болельшиков считалась «элитной». Она (как и Южная) располагалась вдоль футбольного поля, и футболисты (нам казалось), /115/ как-то по-особому постукивая шипами бутс о каменные ступеньки, выбегали на матч из тоннеля, находившегося как раз под Северной трибуной. Но главное, даже в яркий солнечный день Северная трибуна находилась в тени, и ее зрителям хорошо было видно все футбольное поле. (Мощные прожектора, позволившие проводить игры в вечернее время, были установлены на стадионе позднее.) Цена билета на Северную трибуну рядовым болельщикам была не по карману — аж целый рубль! И на этой трибуне обычно располагалась более-менее состоятельная публика той поры — офицеры (можно было увидеть и генералов), чиновный люд и т.п.
Южная трибуна тоже, как уже говорилось, располагалась вдоль футбольного поля, но она освещалась солнцем и потому котировалась ниже Северной. Цена на нее была меньше
— кажется, 70 или 80 копеек.
Западную трибуну осваивала «простая» публика. Трибуна находилась за футбольными воротами, и смотреть за игрой приходилось не в ширину поля, а вдоль него, так что происходившее возле противоположных ворот не всегда было хорошо видно. Но «Запад» имел все-таки некоторые преимущества. Он не так сильно освещался в солнечные дни и не столь плотно «утрамбовывался» людьми, так что свое место (купленное в кассе) там всегда можно было занять. Да и билет сюда стоил всего полтинник.
Восточная трибуна — вот где царила подлинная болельщическая демократия! Работяги в кепарях-малокозырочках и поддевках, пацаны лет двенадцати-пятнадцати — это был их дом. Чтобы попасть на «Восток», надо было заплатить всего 30 копеек. Однако и таких денег у многих ребят с московских окраин часто не имелось. Тогда, как говорили, приходилось идти «на протырку» т.е. на прорыв. В прорывах были и стихия, и подготовка. Мы, например, собирались на нашей Трифоновской улице и ждали прохождения по ней грузовых /116/ трамвайных платформ (в то время такие ходили, перевозя различные грузы). Остановок эти платформы, конечно, не делали, но мы в них и не нуждались. Мы садились на такие платформы с ходу, размещались на площадках и бесплатно доезжали до Верхней Масловки. Тут тоже на ходу выпрыгивали и уже пешком двигались к «Динамо». К нам со всех сторон присоединялись все новые и новые «прорывщики». Толпа непрерывно ширилась и густела. Вот, наконец, и врытые в асфальт заграждения, перекрывающие путь на территорию стадиона. Рядом — контролеры. Толпа сзади все напирает и напирает. Какое-то время несчастные контролеры сдерживают напор, но сил у них явно не хватает, и прорыв совершается! Прорвавшиеся рассыпаются по стадиону, постепенно, однако, сосредотачиваясь у проходов на Восточную трибуну. Но, увы, — это только полдела. Надо еще пройти второй и более строгий контрольный заслон, чтобы попасть на самое трибуну.
Обладатели билетов (они не участвовали в прорывах) чувствовали себя уверенно. Они спокойно проходили через этот заслон и рассаживались по скамейкам на свои законные места. А вот прорвавшимся безбилетникам приходилось метаться. Те, кто поменьше ростом и возрастом, приставали к взрослым: «Дяденька, проведи!» И находилось много сердобольных «дяденек» которые, жалея мальчишек, каким-то образом действительно их проводили. То ли убеждали контролера, что этот со мной и будет сидеть у меня на коленях, то ли ловким мальчишкам удавалось проскользнуть мимо контролера, пока он беседовал с «дяденьками».
А на скамьях Восточной трибуны действовал железный закон футбольных дружбы и братства. Фраза: «Ребята, подвигайся!» работала безотказно, как приказ. Сидели впритык, обнявшись, чтобы не свалиться в проходы, в самих проходах. Пьяные отсутствовали... Любопытно, что под трибунами в то /117/ время свободно, в разлив, продавали пиво и даже водку, а пьяного хулиганства на «Востоке» тогда не было! Вот подходит какой-нибудь работяга к стойке: «Мамаша, насыпь сто пятьдесят!» Выпивает, закусывает, не спеша идет на трибуны и ведет себя там нормально. Да и что может увидеть нетрезвый болельщик? На Восточной трибуне не было случайных или редко приходивших сюда людей. Тут собирался постоянно «прописанный» народ, настоящие знатоки футбола. Они знали все об игроках не только своих, но и чужих команд, а класс и мастерство этих «чужих», будь они даже из других городов и республик, никогда не умалялся в сравнении со своими любимцами. Класс есть класс! Никуда от этого не денешься, причем же тут свои или чужие?
Особенно любили на «Востоке» нескольких стремительных нападающих. Это были великие мастера — Всеволод Бобров (несколько ранее — Григорий Федотов) из ЦДКА, Константин Бесков и Василий Карцев из московского «Динамо», Валентин Иванов из московского «Торпедо», Борис Пайчадзе и Гайоз Джеджелава из тбилисского «Динамо», Александр Пономарев из сталинградского «Трактора» и др.
Бобров был супер-звездой. Но поражал и динамовец Карцев. Небольшой, худенький, даже тщедушный, он обладал невероятной силой ног. Причем удары по мячу он, как правило, наносил со средних и дальних позиций. Вот Карцев, маневрируя, выходит на ударную позицию. «Восток» привстает в ожидании чуда. Секунда... И мяч, сорвавшись с ноги Карцева, как пушечное ядро, врезается в сетку ворот!
А Пономарев, или, как его звали на Восточной трибуне, Пономарь, — невысокий, плечистый, крепкий, как дубок! У него был стелющийся, размашистый бег, и даже мощные толчки защитников не могли его остановить. О нем, впрочем, как и о других, ходили легенды.
Сколько захватывающих матчей видели мы с Восточной /118/ трибуны! Об одном из них стоит рассказать. 1948 год. Впервые за победу в розыгрыше первенства СССР по футболу игроки награждались золотыми медалями. А положение сложилось так, что почти в выигрышной позиции оказалась московская команда «Динамо». Она опережала команду ЦДКА на одно очко и в последнем между ними матче динамовцам достаточна была ничья, чтобы первыми в нашем футболе получить эту высшую награду — золотые медали.
Восточная трибунна сгрудилась намного больше обычного. Сидим, прижавшись друг к другу. Вот выскочили из своего туннельного подземелья футболисты. Свисток судьи, и игра пошла. Открыл счет Бобров, но Бесков сквитал. Как всегда, красиво играл центральный защитник ЦДКА Иван Кочетков! У него был очень высокий прыжок, и он как будто бы на мгновение зависал в воздухе. Кочетков и стал героем матча. При счете один-один армейцы забили второй гол и, казалось, уже шли к победе. Тут-то и произошла кочетковская трагедия. Пытаясь отбить высоко летевший мяч, Кочетков «срезал» его в собственные ворота! Сидевший рядом болельщик «Динамо», одуревший от радости, встал и бросился в нижние ряды трибуны. Его со смехом за ноги вытащили и усадили на место. И оставалось совсем мало времени до конца игры...
Мне кажется я это видел: желтовато-калмыковатое лицо Кочеткова потемнело. Было заметно, что некоторое время он находился в шоке — его перемещения по полю стали хаотичными. Но затем простая мысль, видимо, привела его в чувство. Какая разница: ничья или проигрыш — все равно поражение. И Кочетков сделал выбор. Обнажив свой тыл (была не была!), пройдя с мячом свою половину и середину поля, он увидел, как набирали скорость следовавшие за нападающими совсем молодые армейские полузащитники Вячеслав /119/ Соловьев и Алексей Водягин. Кочетков послал мяч Соловьеву, и тот, не останавливаясь, нанес удар по воротам. Но мяч не достиг сетки. Штанга! Отскочивший от нее мяч перехватил рвавшийся вперед Бобров и вместе с мячом ворвался в сетку динамовских ворот! Так и осталось у меня в памяти: растерянность и затем отчаянный рывок Кочет кова, победно выбегающий из динамовских ворот Бобров и бессильно лежащий на траве поверженный вратарь «Динамо» Алексей Хомич…
Прошло много лет, больше полувека. Давно уже в Москве построено множество современных спортивных сооружений, «Динамо» теперь лишь один из периферийных стадионов города. Но та динамовская Восточная трибуна жива в нашей памяти. И я вижу: вот футбольный мяч взвился над зеленым полем и летит в голубизну неба. Это полет нашей уже далекой юности. /120/